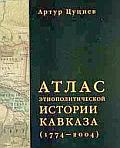Дзахо Гатуев
ГАГА-АУЛ
Повесть
Никто не видел и никто не слышал, когда и как убили Джемала. К сакле его подошел сосед и позвал:
— Баки!
Баки скрипнула дверью и улыбнулась, прикрыв ресницами глаза.
— Отца нет дома, я не могу впустить гостя. Приходи после.
— Баки, — сказал сосед, — твой отец не придет, потому что я оставил его на дороге. Он не придет домой, если не принесут его. Он убит, Баки!.. Пусть твое горе будет нашим горем. Пусть твои болезни станут нашими.
Баки посмотрела в глаза соседа, и кровь схлынула с ее лица. Еще чернее стали крутые крылья ее бровей и ярче четкие губы, раскрывшиеся для вопля. Дрогнули ее колени, а белые руки схватились за сердце. Она, наконец, глотнула воздух, ее руки опустились вдоль бедер, и ресницы прикрыли глаза.
— Позор на твою голову, сосед! — сказала она глухо. — Ты моложе, почему же ты не шел впереди и не прикрыл его от врага?.. Ты сильнее, почему ты не нагнал убийцу?
— Я моложе, я сильнее, — это справедливые слова, Баки! Но я шел не рядом с ним, не впереди. Я был отдельно, был далеко. Он остыл, когда я приблизился к нему.
— Сосед, — сказала Баки, — от ружья или от кинжала погиб мой отец?
Она была бледна и помнила: не должен думать сосед, что она слаба, что будет она покорной и бессильной, оставшись одинокой. Она не плакала.
Сосед удивленно смотрел на Баки и думал: зачем ей плакать, богатой хозяйкой будет она теперь. Сказал:
— От ружья погиб отец твой. Своей буркой я прикрыл его тело, чтоб его не клевали вороны. Своего мальчика я оставил около него, чтобы шакалы не подползли к нему. Дай бурку твоего отца, Баки! Я позову соседей, и мы принесем его домой.
— Вот бурка Джемала!
Отца Баки убили на сенокосной тропе, когда он проходил под Чертовым Камнем. Баки не пошла туда. Она вернулась в саклю, подхватила с пола деревянное блюдо с мукой и понесла его в кладовку — пещеру за стеною сакли. Она оглядела в темноте полные чаны с сыром и маслом, ощупала жесткую копченую баранью тушу, распятую на палках и подвешенную к потолку, потрогала шуршащие пучки лука, чеснока и кожаный мешок, в котором слежалась соль.
— О-о-ох! — вздохнула Баки.
Горячим языком она лизнула нёбо, на котором застыл холодок невыплаканных слез, но вспомнила, что должна убрать комнату, в которую скоро соберутся люди.
Струя из кумгана1 затейливыми зигзагами рассыпалась по полу. Баки подмела и сбежала по лестнице, сложенной из каменных плит, в хлев, в котором застоялся многолетний кислый запах скота. В прохладной, сумеречной сырости грустящий бычок взглянул на Баки и влажной мордой потянулся к ее рукам. Она крепко сжала пальцами его нежную, мягкую грудку, лысые, около хвоста, ляжки.
— Ни худой, ни жирный. Жаль, что не жирный: мой отец заслужил жирного... Надо послать, чтобы наших баранов из стада пригнали. Кого послать? Вечером коровы с пастьбы придут... Как доить? Ой, Баки, ты одна!
Со стороны посмотрела на себя Баки — она мала, а вокруг велик и жуток большой мир: аулы, пастбища, перевалы, снега.
Жалко Баки себя стало, заплакала.
Сосед созвал соседей, а соседи — соседей. Как летучая мышь, весть порхала из сакли в саклю, из двери в дверь.
— Убитый Джемал на тропе лежит, на сенокосной тропе.
— Кто убил?
— Не знаем.
— Лечи-Магома убил, никто другой.
— И, алла!2
— Ох, ох!..
Баки надела черное платье, черный платок на глаза опустила. Соседки тоже черные платья надели, черные платки на глаза опустили. Баки у себя сидела, и чинными вереницами соседки по аульным тропкам спускались и поднимались к ее дому.
— О-да-дай!3
— Да-дай!
— Бедная, одинокая, очаг твой холодный!
— О-да-дай! Да-да-дай! — плакали они.
— Как жить? Как ходить? По черным горам черной вороной скитаться!..
— О-да-дай! Да-да-дай!
Потолок дрогнул, утес дрогнул, солнце — сердце Баки — дрогнуло, когда услышала она причитанья женщин.
— Серые камни за дверьми, серые камни стоят грустно, смотрят грустно, плачут!
— О-да-дай! Да-да-дай!
— Солнце улыбалось, его солнце, теперь стоит грустно, смотрит, грустно плачет!
— О-да-дай! Да-да-дай!
Женщины, как к себе домой, входили к Баки и размеренно били себя в колени, в виски, в колени, в виски.
— О-да-дай! Да-да-дай!
Они молча расселись в комнате, и, как невеста, стояла Баки. Нуннэ остановилась около Баки и спросила тихо:
— Что есть у тебя?.. Будут приходить люди из аулов ближних и дальних — надо накормить их...
— Есть бычок живой и баран соленый, рис и мука, чеснок и соль. На горах, на пастбищах наши бараны. Прошу тебя, Нуннэ, все сделай.
— Все сделаю, моя бедная Баки, чтобы хорошо и сытно было... Пусть твои болезни перейдут на меня, — ответила Нуннэ и из-под век скосила ревнивые глаза на женщин.
Обильные слезы, которые стекали по бледному лицу с ямкой на подбородке, она собирала в сложенные на животе сухие, узловатые ладони. Баки положила на них ключ от пещеры, таившей б’огатства джемаловского дома. Нуннэ спрятала его в кушаке и вернулась к женщинам: в конце улицы зашуршали шаги — несли Джемала.
— О-да-дай!.. Да-да-дай!.. — опять заплакали и поднялись со своих мест женщины.
— Бедная, бедная: ждала единственного — сидишь с угасшей головой, с золой в руках...
— О-да-дай!.. Да-да-дай!..
— Стояла гора, стояла — рухнула.
— О-да-дай!.. Да-да-дай!..
Внесли Джемала в дом его, но, укутанный в бурки, он не слышал, как плакала Баки, не видел, как летели клочья ее волос и текла кровь с лица, исцарапанного широкими ногтями. А в большом мире солнце упало за горный кряж, и многогорбая тень неодолимым чудовищем поползла по красному склону, по которому, как ступени, спускались плоские сакли Гага-аула.
Около сакли сидели гага-аульские люди. Они встали навстречу Джабраил-кадию; спросил кадий:
— Почему нет здесь Лечи-Магомы?
Люди не знали, почему нет Лечи-Магомы, и послали за ним. Не пришел Лечи-Магома; кадий удивился и прочел людям васиат4 Джемала.
«Я, Джемал, гагааулец, просил гага-аульского кадия написать это: назначаю на свои поминки из одной трети своего имущества сто рублей, чтобы дали пищу жителям Гага-аула, начиная с моих соседей и кончая теми, кому достанется. Вакуфом5 назначаю пахотный мой участок на склоне Кикин-дук. Назначаю исполнителем воли моей приятного сердцу Абу-Талиба, а после него Джабраил-кадия. Названного мною Абу-Талиба назначаю также, как надежного для этой цели, опекуном дочери моей Баки. Назначаю все свое имущество для владения, сохранения и получения с него доходов дочери моей Баки. Другие родственники не в праве препятствовать этому».
Мулла омыл Джемала, заткнул ватой нос и уши его, завернул его в три савана. А ночью приходили на тезет6 люди из аулов ближних и дальних. И женщины, передохнув, вновь наполняли саклю плачем:
— О-да-дай, Баки! В тени его ты отдыхала...
— О-да-дай, Баки! В тепле его цвела ты...
— О-да-дай, Баки! Кто тебе поле вспашет?
В комнате рвались по стенам клочья теней: во дворе суетились вокруг костров люди. В медных котлах они варили к поминкам баранину, и скоро вкусный, пряный ее запах смешался с дыханием ветра.
Во многих аулах знали Джемала, из многих аулов пришел большой народ: надо накормить его.
* * *
Утром люди толпой бежали по узким улочкам, торопясь унести тело на кладбище: мертвое — мертвым.
Баки и женщины остались дома и сидели вдоль стен, плакали и беседовали:
— Кто Джемала убил?
— Лечи-Магома.
— Родной брат?
— Если кто-нибудь другой убил, почему не пришел Лечи-хМагома, не плакал, не помогал?.. Сам не пришел, и дети не пришли... Почему?
— Да, убил Лечи-Магома.
— За что?
— За землю, за сад, за покос. Землю поровну Джемалу и Лечи-Магоме отец оставил; детей не поровну родилось у них: у Лечи-Магомы два сына, пять дочерей; у Джемала — одна Баки.
— Как Баки одна будет?.. Не справится она ни с землей, ни с садом, ни с покосом. Муж нужен Баки.
От Нуннэ — Нуннэ домой к себе взяла муку — принесли круглые столбики плоских лепешек. Старики разложили хлеб, и горы остывшего мяса, и деревянные чашки с кислым молоком, приправленным чесноком и солью, на графитные плиты. Плитами, словно черными низкими столиками на грузных каменных ножках, была уставлена плоская кровля сакли и земля.
Вернулись с кладбища мужчины. Они сидели вокруг стола и сгрызали с костей мясо, а женщины плакали.
— О, работавший много, неустававший... О, мудрый...
Мулла тихо прочел молитву и громко сказал:
«Омен», мужчины встали из-за столов и беседовали на улице, сидя на камнях:
— Как Баки одна будет? Плохой он человек, Лечи-Магома: как можно убивать того, за кого мстить некому? Кто за Джемала сможет отомстить? Баки?
* * *
Давно первые люди пришли в эти места: враги прогнали их в горы с мягкой и жирной земли-равнины, и девственное ущелье — в нем спорили только река и ветер — услышало страстные хриплые голоса.
У этих людей были большие челюсти и руки с волосатыми пальцами. На крутом утесе они сложили каменные жилища, обнесли их каменной изгородью и построили первый могильник на седловине, которая тянулась к тяжелому горному хребту.
Но еще приходили люди, тоже изгнанные с сочной и жирной земли. Ущелье настораживалось. Порхали стрелы, хрустели кости раздавленных камнями, пущенными с утеса. Слабых уничтожали, сильные оставались, уговорившись между собой: то, что уже возделано, — работавшим; новым пришельцам — то, что надо еще оживить на склоне хребта.
Первые легко очистили от каменных осколков пологие поля и окружили их стенами, чтобы уберечь от обвалов.
Не держат влаги поля покатые, и, чтобы оживить их, поздние пришельцы избороздили чело горного склона морщинами каналов, вдумчивых, как лоб, извилистых, как мозг, чистых, как нервы, полноводных, как жилы юноши. Медленно и упорно, изо дня в день, из года в год, пришельцы собирали на свои участки горсти земли, добытые на дне ущелья, на утесах, дальних и ближних, в расщелинах. Несли в подолах одежд, в долбленых деревянных чашах, в сплетенных из веток корзинах...
Их труд сделал Лечи-Магому убийцей.
Умирая, отец Лечи-Магомы и Джемала, чтобы два его сына равными были, справедливо разделил между ними сад, который предки насадили своими руками, пахотное поле, которое возделали предки, и покос. Но Лечи-Магома и Джемал оставили от древнего равенства только обычаи: вместе начинать пахоту, жатву кончать вместе. У Джемала — Баки одна, у Лечи-Магомы детей — много. Что казалось справедливым отцу, изменилось для сыновей его.
А Лечи-Магома разве мог позволить, чтобы был брат важнее и богаче его, чтобы вместе с Баки перешли дом, сад и поле к мужу ее, к семье, предки которой капли пота над ними не пролили? Какой это закон? Не адатский — шариатский7. Но не будет гак: царя нет, и его закона нет.
Лечи-Магома ходил к Джемалу, но Джемал не слушал его. Почетные старики ходили за Лечи-Магому просить. Они говорили Джемалу про адат, говорили, что в мужском потомстве заложена сила семьи, что держится сила семьи на имуществе — земле. Но Джемал шумел, что все, политое кровью и потом деда, отца и самого Джемала, принадлежит только ему, и никому больше: он распорядится всем, как захочет. Гага-аульский Джабраил-кадий приходил к Джемалу, говорил ему: правда, что шариат считает собственником земли того, кто оживил ее, но ведь Джемал не сам оживлял имение, а предки, которые были и предками Лечи-Магомы.
— Шариат сохранит за твоей дочерью то, что установил пророк для всех женщин: она получит только одну треть имения, как написано в Коране, — говорил кадий.
И, воздав хвалу пророку, ответил Джемал: правда, что предки его и брата оживили эту землю; но есть и другая правда: если бы он своими руками, своей головой не поддерживал жизнь земли, она умерла бы. Разве пришел хоть раз Лечи-Магома, чтобы помочь ему? Урожаю Лечи-Магома приходил помогать — это верно. Конечно, жалко, что дочь у него, а не сын, но что делать: закон не мы создавали. Пока жив Джемал, так будет, умрет — тоже. Тогда Лечи-Магома убил Джемала.
* * *
Через день Баки пошла с женщинами на кладбище и плакала около могилы отца, уминая ее жесткими ладонями. Ее проводили домой, и она осталась одна.
Одинокий — беднее леса и камня; в два раза беднее — одинокая.
У Баки был дом, овцы и коровы, сад и поле, засеянное ячменем, и покос. Что Баки делать? Если завтра в сад пойдет, дом, ячмень и покос плакать будут; дома останется — сад будет плакать, покос и ячмень.
— Муж тебе нужен, Баки! — сказала Нуннэ, которая вызвалась убрать дом.
— В нашем ауле не родился мне муж; не знаю женихов в аулах дальних, — отвечала Баки.
— Из нашего аула не выпустим тебя, красавицу! — льстила Нуннэ.
— В дальних аулах могут быть лучше женихи.
— Отовсюду будут приходить к тебе.
— Повсюду я буду сама ходить.
— Зачем, Баки?
— Женихов искать.
— Стыдно девушке на мужчин вешаться.
— Но я буду изнемогать под ношей...
— Не понимаю тебя.
— После поймешь.
— Хорошо. Для тебя, для молодой, Баки, все хорошо; но равнину одолеешь, а горы возьмешь ли? Смотри, Баки: на распутье у коня голова кружится.
— Ничего, Нуннэ: когда грозишься, не отпадает палец.
Вместе коротали вечера Баки и Нуннэ. Сидели на тахте, и Нуннэ рассказывала, как встречают и судят за гробом мертвых, как Джемал по стеклянной нитке через адскую пропасть перенесется в рай, потому что на земле был он добрым — бедные люди кормились, работая на его полях и покосах.
Баки слушала, смотрела на пол, на мутную печатку света, через окно оброненную дальней луной. Продолговатая, она напоминала Баки могилу, и съеживалось у Баки сердце, и холодный клубок карабкался вверх, к горлу.
— Отчего ты не плачешь, Баки? Ты — дочка, тебе надо плакать, тебе не стыдно.
— В сито воду зачем набирать? — крепилась Баки.
Но сдавалась к ночи, когда ложилась спать, когда лунная печатка ломалась на стене.
Вот Баки пойдет к каменотесу, закажет памятник, похожий на человека, завернутого в саван; лицо у памятника будет — рассеченное на четыре части солнце;
на теле высечет каменотес газыри8 и кинжал, у ног — лопату и косу, фрукты и пук колосьев.
— О-да-дай! — стискивала Баки зубы.
— О-да-дай! — вскидывалась Нуннэ на постели и причитала: — Какой ты бедный, что дочь свою замуж не выдал!..
— Да-да-дай!
— Теперь она ночью спит с тревогой, днем сидит с трепетом...
— Да-да-дай!
— В долгую ночь боится рассвета, в долгий день — ночи.
* * *
У источника Баки встречала женщин. Они жалели Джемала, не оставившего мстителя за себя: душа его не попадет в рай.
— Значит, обманывала меня Нуннэ, когда говорила, что Джемал уже в раю?
— За тряпки, которые ты даришь, она расскажет тебе, что хочешь.
Баки принесла домой воду и поспешила к Джабраил-кадию.
Он ходил по садам. Кончалось лето, и зрели, наливаясь сахарной сладостью, фрукты. Они светились в листве, как камни на серьгах, и кадий взвешивал их на широкой ладони, щупая, точно щечки младенцев: поспели или нет? Он знал, когда надо снимать урожай с полей и в садах, сено с лугов. Никто не мог быть первым в этом деле, и гагааульцы начинали работы по слову кадия: где совет есть, там нет драки, а где все равны, нет зависти. Зрели фрукты, и кадий по утрам заставлял усаживаться на землю гагааульцев, у которых были сады: вдоль верхней межи — мужчин, вдоль нижней — женщин. Когда они уходили, кадий раскапывал палочкой тепловатые людские памятки: искал уличающих плодовых зерен или шелухи.
Кадий скажет, когда снимать урожай. Для этого постиг он мудрость шариата и суровый адат. Крепки каменные горы — годы не могут испепелить их; тысячу лет борется с адатом шариат и не может испепелить его. Кадий — как плохой мир между ними.
Баки остановила его.
— Правду ли говорили мне женщины?
— По шариату а’Шафия, — да прославит аллах тайну его познаний! — пророк разрешил тебе или требовать смерти убийцы, или принять от него дийэт (пеню), или совершить сульх (примирение), или дать ему афв (прощение). Иди по пути, указанному пророком.
— Эти пути похожи на адат, Джабраил-кадий!
— Они подтверждены шариатом и, значит, богом.
В саду у соседа тень яблони упала на отмеченную камнями полосу в траве: кончился его водяной час. Сосед поднял шлюз и пустил воду в сад Баки, чтобы ее земля в свой черед насытилась влагой.
Баки устала и легла, и тугие груди прижались к ребру канала. Баки желобком губ напрасно тянулась к сладостно пахнувшей воде. Меж деревьями хрустнули сухие сучья, взвизгнули камешки на тропе: Лечи-Магома пробирался к Баки.
— Здравствуй!
Баки вскочила и встала перед ним, стряхивая с ладоней приставшую к ним влажную землю.
— Ты разве не знаешь меня, Баки?.. Почему молчишь? Или ты веришь тому, что говорят про меня люди? — пытливо спрашивал Лечи-Магома.
— Уходи!
— Зачем и куда мне уходить, Баки? Разве не у себя я? Разве эта земля не моя? Ты сама уходи отсюда.
Как свалявшийся, плохо приклеенный клок шерсти, шевелилась стриженая борода Лечи-Магомы, когда он говорил.
— Ой, Лечи-Магома, ты напрасно думаешь, что если я девушка и одна, то ты можешь... — закричала Баки.
— Я не думаю, что ты девушка, что ты одна.
— Что еще ты можешь сказать, Лечи-Магома? Зачем ты так с одинокой разговариваешь?
— Ты кахпа9, Баки, и я, что хочу, сделаю с тобой.
— Попробуй, Лечи-Магома! Если ты мужчина — иди сюда и попробуй. Хочешь, чтобы все твое было, Лечи-Магома? Иди! Все, что пройдешь, твоим будет. Иди!
Баки отступала от Лечи-Магомы. Он осторожно шагал за нею и остановился, когда она нагнулась и пальцы ее начали шарить в траве. В ее руках мрачно сверкнуло ружье, старое, черное, как смерть.
— Ой, Баки, я с тобой воевать не буду: ты — девушка, ты одна.
— Ой, Лечи-Магома, ты не думай, что я одна: видишь, у меня ружье есть. Если хочешь бежать, беги!
— Кто сказал, что Лечи-Магома побежит от девушки?
— Беги, Лечи-Магома!
Он не верил, что убьет его девушка руками, в которых ружье качалось, как тополь в бурю.
— Тебе страшно, Баки?
— Нет! Ты Джемала убил в спину, я тебя — тоже.
— Что же люди скажут, если женщина меня в спину убьет? Кто будет тогда плакать надо мной?
— Не хочешь бежать?
— Кахпа, обманула меня!
— Ты сам — кахпа, ты — змея!
— Проклятый бог, который не сделал тебя мужчиной, чтобы я мог с тобой бороться.
Выстрела никто не слышал.
Сосед пришел к дому, где жила семья Лечи-Магомы.
— Ой, Айша!
— Кто здесь?
— Это я, Гамзат...
— Приходи позже, Гамзат, отца нет дома сейчас. Он в саду и скоро вернется.
— Он в саду сейчас, Айша, это верно, но не придет сюда. Он убит, Айша! Пусть твое горе будет нашим горем, пусть мы съедим все болезни твои.
— О-да-дай! Да-да-дай!..
Она поет — вода поет, когда бежит, о камни разбиваясь, и, как пчела в окне, гудит в кувшинах медных. Сладчайшая вода в ущельях вторит женским голосом.
— Добрый вечер, Саба!
— Легкого пути тебе в гору, Пори! Ты уж набрала сладкой воды?
— Набрала. Так набрала, что мой путь не будет легким.
— Твой путь будет легким; Баки Лечи-Магому убила.
— Баки?
— Баки. Поет вода.
— Когда убила?
— В саду убила.
— Вот и девушка!
— Девушка — кто?
— Баки.
— А что?
— Убила.
— Кого?
— Убийцу своего отца.
— Неправда это.
— Она в ауле сама сказала.
— Кто?
— Баки пришла в аул, сама сказала. Поет вода.
— Ой, женщины, Баки убила...
— Кого убила?
— Лечи убила. Я знала, что она убьет...
— Вот и девушка!..
— Ока сильнее иного парня. Всем нам так бы. Тогда бы меньше было сирот, тогда бы не смели убивать у дочерей отцов, у девушек — их братьев.
— Ты не кричи: услышит муж.
— Пусть слышит.
— Прибьет!
— Нет. Все думали, мы не умеем драться. Умеем вот... Баки...
— Баки одна. Поет вода.
— Идемте к ней.
— Куда?
— К Баки.
— Зачем же к ней идти?.. К нему пойдем.
— Плакать?
— Плакать.
— Иди и плачь. Мы к ней пойдем.
Сладчайшая на белом свете в ущельях поет вода. Она изрыла, как лопатой, горы; она покрыла кудрявой зеленью сады; позолотила нивы и взволновала жернова... Всегда поет сладчайшая на белом свете вода.
Вы, девушки кавказских стран, вы знаете, как поет вода, про что поет. Вы знаете, как тяжела она, сладчайшая на белом свете...
— Легко идти тебе в гору, Саба!
— Спасибо... и тебе... Придешь к Баки?
— Приду.
Поет вода.
* * *
Иссякло лето. По утрам замечал народ гага-аульский, что осень уже сжала ущелье, что одеваются вершины гор в золоторунные папахи увядающей травы, что ниже и ниже скатывается по скалам бурая шерсть осенних одежд земли.
Сухим холодком постукивал ветер по Гага-аулу, сковывая лужицы первыми звеньями мороза. На кровлях саклей стояли грузные башенки из кизяка. Осенний запах его мешался с обрывками паутины, виснущими в узких улочках и мягко цепляющимися за спокойные в отдыхе лица людей. На вытоптанном лугу толпились коровы и быки. Они тянули вверх свои драконьи морды и ревели, точно пугали зиму, которая тронула росным инеем затененные выступы утесов.
Но застаивались на горных хребтах тяжелые облака. Скоро они просеяли на ущелье снег, и тогда уже нельзя было ни пройти, ни проехать в Гага-аул или из Гага-аула; горы — словно стена, и тропинку, что змеей лежала на склоне, сковало льдом. Ступить некуда, ухватиться не за что. Сидели дома люди.
Глаза грыз дым — тепло дома. Кисло дышали овцы — тепло дома. Коровий помет густо на пол шлепался, остывал медленно и тяжело — тепло сидеть, в шубы укутавшись, беседуя.
Никто не понимал в Гага-ауле, что произошло на белом свете с тех пор, как царя не стало. Люди, которые приходили на похороны Лечи-Магомы и Джемала, рассказывали, что ушли большевики весной, и теперь в городах меньшевики, Деникин — генерал с лицом белым, как бязь, и с железной пастью. Казаки ловят для него бедных людей, и он стальными зубами въедается в их кости и сосет их кровь — этим живет. Еще рассказывали люди: идет на генерала из Москвы большая сила мужиков, которые себе падишаха выбрали — Ленина.
— Теперь, — говорили люди, — все перемешалось на белом свете, и лучше нам дома сидеть, пока там тоже усядутся на свои места. Мы маленький народ.
Смирно сидели гагааульцы: с кем и за что драться им? Разве сделаешь равнину из гор, а из камней мягкую землю? Пусть там, где сочна и жирна земля, русские на русских идут, мусульмане на мусульман. Зачем гагааульцам идти туда, куда не зовут их, где не дадут им ничего? Все равно мягкую землю равнины получат те, кто живет близко к ней.
— Мы не большевики, не меньшевики. Мы гагааульцы, — хвалились они гостям.
Но вот пришла зима, и появились в Гага-ауле большевики и меньшевики. Кто большевик?.. Баки. Кто меньшевик?.. Лечи-Магомы дети: они за шариат. Они кричали, что Баки, по шариату, за убийство отвечать должна, что Баки, по шариату, получить может только одну треть земли — поле, покос и сад.
Большевики спорили с ними: советский закон — не шариатский и не царский. Начальника участка нет, начальника округа нет, даже нет начальника области. Никого нет.
Меньшевики спрашивали у большевиков:
— Пророк, да будет благословенно имя его, что сказал? Что правоверные должны быть богу покорными. Не повелевает разве бог в Коране: «Женщина должна также иметь часть в наследстве после отца, матери или других родственников; сыну — такую же часть дома, как двум дочерям вместе»? А Баки что сделала? Почему она все наследство себе взяла? Почему она Лечи-Магоме ничего не дала? У Лечи-Магомы — дети: сыновья и дочки, а Баки одна.
Отвечали большевики:
— Какой такой пророк? Он когда жил, а мы — когда? Тысяча лет прошла. Пророк где родился, а мы — где? В Геджасе вместо хлеба финики едят, а здесь пахать надо, сажать надо — работать и работать. Ленин сказал: добьемся всего своей рукой. Кто чего хочет, того добивается.
Меньшевики говорили:
— Не сказал разве пророк: «Вступайте в дома ваши через входные двери»? Что будет, если люди через окна входить начнут? Не сказал ли пророк еще: «Счастливы верующие, ограничивающие удовольствия свои своими женщинами и рабами, которых уготовила им правая рука их»? Что будет, если каждый мою жену захочет?
Большевики качали головами:
— Твою жену — ты, мою жену — я, сами защищать будем. Жена — одно дело; дом, земля, сад — другое...
Летом до города из Гага-аула пешком пять дней, верхом — три дня. А теперь ни конного, ни пешего пути в город не было. И в ауле за мулу и кадия держались те, которые за меньшевиков стояли, а те, которые за большевиков, — за Баки и купца Кашкара.
Несправедливо разве спрашивали большевики:
— Зачем у мечети столько земли? Вакуфы для чего ей?
— Вакуф — имение бога, — отвечал меньшевик Джабраил-кадий.
— У него всего много. Зачем ему земля, которая и бедным людям нужна?
— Как можно перед лицом его такие слова говорить?
— Если бы эта земля в моих руках была, я лучше ею распорядился бы, — мечтал Кашкар.
— Как можно перед лицом его такие слова говорить? Мы — приказчики бога, мы — учителя детей ваших. Если у мечети отнимете землю, кто тогда муталимов10 учить сможет?
— Если бы эта земля в моих руках была, я сделал бы ее в десять раз полезней. Я бы тогда и муталимов учил, и жалованье вам платил бы.
В саклях женщины возились у огня. Они вытаскивали из очага ячменные лепешки, стряхивали, сдували с них горячую золу, говорили полушутя, полускорбно:
— Зачем нам мужья? Мы сами хозяйствовать можем. Вот Баки: она одна фрукты сняла и высушила, одна ячмень сжала и перемолола, траву скосила, с пастухами договорилась, чтобы они овец в кизлярские степи на зиму выгнали.
— Нет, Баки не одна была: работник у нее был, — сердились мужья-меньшевики.
— Работник — не муж, работник — работник.
— Работник — не муж, потому что он работает; муж — не работник, потому что не работает: хозяин он. Мы — хозяева. Вы часто с Баки к большевикам ходите, поэтому такие слова говорить начинаете. Сидите дома и свои дела делайте, чтобы дома тепло и хорошо было.
Давили зимой на Гага-аул: снизу — земля обледенелая, сверху — горы обледенелые, и никто не знал, кто весной из-за гор приедет: пристав ли, турецкий ли полковник из Стамбула или шейх с фирманом от шейха шейхов из Мекки. Зима, ветер во все щели одинаково дул, снег все поля одинаково покрыл; обвал всякого придавить мог. Что был перед лицом аллаха Гага-аул?..
Смирно, большевики, смирно, меньшевики, сидите до тех гюр, когда зашумит, загремит весна, и льды рассыплются, и мутными волнами вскипит на реке снег, и прозреет солнце.
* * *
Кашкар всегда ласково смотрел на Баки. Была она как сильная лошадь, и даже под зимним платьем видны были ее крутые бедра, крепкие груди.
На горе своей матери стал задумываться и грустить Кашкар. Или мечтал Кашкар, и тогда отвисала у него нижняя губа и еще короче делалась шея; слезы выступали на круглых выпуклых глазах, когда он мечтам своим подпевал тихо...
Иногда надевал Кашкар поверх черкески крытую русским сукном шубу, закручивал рыжие усы и, подняв голову, ходил к источнику или по улочкам, которые цеплялись за саклю Баки. Наконец встретил ее и сказал ей:
— Ты хорошей женой была бы, Баки!
— Я знаю... Ты тоже не был бы плохим мужем, Кашкар.
— Я знаю. Я да ты... Ну, как же будем, Баки?
— Так и будем, Кашкар!
— Кого же выберешь, Баки? Скажи — мой широкий кинжал его поразит.
— Кого захочу. Я — сама себе хозяйка. Каждую весну расцветает мой сад, вспахивается поле, и летом ко мне свозят жатву.
— Я — сам хозяин, Баки! Ты — одна, а у меня мать есть. Она тебе служить будет. Я да ты в Гага-ауле спали бы, укрывались бы Гага-аулом.
— Не хочу, Кашкар!
— Захочешь, Баки!
Нельзя было разговаривать на улице: холодно, и люди примечают. Баки оставляла Кашкара; понуро возвращался он домой.
Плохая стояла зима в этом году: где-то в русских снегах дерутся большевики и меньшевики. «Фабрики, заводы, земли — наши», — большевики кричат. «Нет, наши», — отвечают меньшевики. Пушки, ружья стреляют, кровь льется. Кто сильнее — перейдут к тому фабрики, заводы, земли.
За горами война и драка, летом люди гага-аульские боялись с товаром из ущелья выйти и на зиму ничего не привезли в аул. Гости, которые из аулов, ближних и дальних, приходили хоронить Лечи-Магому и Джемала, рассказывали, что и не надо ехать в город: в городе тоже ничего нет.
Один Кашкар запасся керосином и мануфактурой и достал солдатские подштанники. Теперь женщины гага-аульские покупали и носили их вместо широких шаровар...
Но какая радость от богатства Кашкару: Баки не любит его.
Решил Кашкар. У него керосин и мануфактура, чай, самовар и конфеты — стал он по вечерам собирать к себе лучших гага-аульских людей — большевиков. Лампа горела, чанур11 играл, бубен гремел.
— Весной возьмем и распашем вакуфы! — сговаривался Кашкар.
— Распашем...
— Что нам мулла и кадий сделают? Ничего они нам не сделают...
— Не боюсь я их; бедняков боюсь! — опасался Керим.
— Бедняков я вот здесь держу... — Кашкар протянул ладонь.
— Они теперь стали такие...
— Ничего не будет. Спой, Ытим, про шамилевского Хаджи-Мурата: хороший он человек был.
Пел Ытим. Гуляли друзья.
— О-о-ой...
— Э-э-эй...
Хрустела на зубах печеная кукуруза, сладкая как конфеты.
— Играй, Ытим!
Трах-тах! Тах-тах!
Трах-тах! Тах-тах!
Мало в горах ровных площадок, поэтому там привыкли танцевать в маленьком кругу, почти на месте перебирать ногами так быстро, чтобы их не видно было, как не видно спиц в арбе, которую лошадь вскачь несет.
Трах-тах! Тах-тах!
Трах-тах! Тах-тах!
От пляса и грохота качалась подвешенная к потолку лампа. Гуляли друзья.
* * *
Не скоро весна. Дни и ночи злобствовал ветер над бездной Гага-аул; вгонял обратно в сакли кислый кизячный дым, и плакали глаза гагааульцев над ярким блеском очагов.
Утром Баки за водой ходила. Она встретила Махмуда, а вечером он пробрался к ней. Никто не слышал — ветер; никто не видел — тьма.
— Вот я пришел, Баки.
— Иди ко мне. Иди прямо. Ни на что не наткнешься; я все убрала, чтобы ты не споткнулся и не упал в темноте... Здесь я. Протяни руку, Махмуд!.. Какая холодная у тебя рука, Махмуд, какая холодная у тебя шуба!
— Ветер.
— Много земель облетел он и к нам такой злой стучится. Много земель обошел ты, в Гага-аул тоже злым вернулся. Почему, Махмуд?
— Ха-ха! Такой закон. Ты добрая была, когда Лечи-Магому убивала?
— Я всегда добрая, Махмуд, но закон такой: за смерть — смерть. Лечи-Магома думал, что если я одна... Сними шубу, иди ко мне. Тепло у меня. Иди ко мне, Махмуд!
В очаге дотлевал под клетчатой корой золы огонь. Баки казалось, что глыба его легко и бесшумно катится к изголовью, что пламенным ветром дышит лицо Махмуда, что сгорает она.
— Махмуд!..
— Баки!..
Она узнала Махмуда на сенокосе. Они укрылись от людей в стогах сена, связанных лыком и придавленных камнями. Тогда точно остановилось для Баки солнце. Опомнившись к вечеру, она ушла домой, все еще жаркая, и как в бездну ступала по невидимой тропинке.
Баки знала с тех пор, что Махмуд единственный, и часто просила его:
— Ты был бы мне хорошим мужем, Махмуд!
— Я — рабочий, Баки, и люди знают, что у меня ничего нет. Что они скажут, если я стану твоим мужем? Скажут: Махмуд за Баки замуж вышел.
— Дай твою руку, Махмуд! — не сдавалась Баки.
И опять ветер потрясал над бездной Гага-аул, и прыгала по комнате глыба огня...
— Махмуд...
— Баки...
— Махмуд... Кашкар говорит, чтобы я его женой была.
— Хорошая пара будет.
— А что, .когда он узнает, что не девушка я? — спрашивала Баки.
— Разве не каждую весну расцветает сад твой и не каждую ли осень ты снимаешь плоды с деревьев? Разве не для тебя взрастает жирная трава?.. Ты — хозяйка, Баки; твой грех зарастет травой.
* * *
Дни и ночи, дни и ночи ветер хлестал в Гага-аул. «Не доживете», — кричал народу гага-аульскому.
Народ ходил страшный — желтый и черный от копоти. Дым разъел глаза, а клопы и вши — тело. Не скоро весна и лето, и страшно в саклях сидеть. Мануфактуры нет; на голое тело шерстяные рубахи надеты.
Чтобы теплее было, люди с баранами спали. Хозяйки меньше и меньше лепешек пекли. Кушайте, что есть, сколько есть. Доживем до весны — хорошо будет.
Летом за горами большевики и меньшевики дрались. Ни пройти было, ни проехать. Кого встретишь на пути — кто знал? Если кто называл себя большевиком, меньшевики убивали; меньшевиком — большевики убивали. Тех, кто никак не называл себя, тоже убивали или отнимали товар. «Все равно за тебя ни большевики, ни меньшевики не будут мстить», — говорили убийцы.
— Какие времена настали!.. Какие времена!..
— Аллах, аллах...
Товар — шерсть и фрукты — остался в Гага-ауле, никто ничего не вывез. Даже Кашкар, который скупил шерсть, только фрукты продал в городе, — обменял на мануфактуру, керосин и подштанники. Убытки и разорение: люди мало покупали в эту зиму и, когда нужен был им керосин или шаровары, приносили вместо денег шерсть. Горы шерсти росли в сарае у Кашкара. Придумал он, что лучше из нее приготовить к весне сукно. Послал крикуна по Гага-аулу.
— Мать Кашкара, Суанет, просит сегодня народ к себе шерсть перебирать, шерсть чесать...
— А в бой не зовет нас Кашкар? — шутили старики.
— Нет, про войну Кашкар ничего не говорил, — серьезно отвечал крикун.
— В другие времена, в старину, такие, как Кашкар, мужчин созывали и в бой вели, а теперь... Хэ-хэ-хэ! Пойди, жена, и ты, внучка, пойди; помогите Суанет... Хэ-хэ-хэ!..
Шли жена и внучка, сестра и брат. Хлестал ветер, взметал подолы — видно было, что не шаровары на женщинах, узкие солдатские подштанники.
— Ничего, теперь все так ходят.
Ытим пришел.
— Играй, Ытим, пой, Ытим!..
Играл, и пел, и смолкал — отдыхал Ытим, а женские руки перебирали шерсть и выдергивали из нее жесткие клочья. Расчесывали ее на стальных иглах, вбитых в доску. Как только не раздирались в кровь пальцы?
Баки пришла.
— Ты все еще с ружьем ходишь, Баки?
— Хожу, Саба! Пусть знают, что я никому не позволяла и не позволю обидеть себя.
— Это хорошо. Ты — наша гордость. Баки — женская гордость.
Пыли так много в комнате, что друг друга не видно.
— Играй, Ытим, пой, Ытим!
Играл и пел Ытим, а невидимый в пыли Кашкар подползал к Баки и говорил ей:
— Баки, ты была бы хорошей женой мне.
— Я знаю. Подожди, не спеши, Кашкар! Подожди немного, дай подумать.
— Зачем думать? Считать надо.
— Стыдно, что ты мне самой говоришь... — откладывала Баки ответ.
— Кому же говорить: отца, матери нет у тебя, Баки...
— Все-таки...
— Как мусульманин, все я сделаю.
— Еще немного подожди, Кашкар!
— Еще немного подожду, Баки... Эй, люди, — громко крикнул хозяин, — рассказывайте, кто что самое хорошее знает.
Как только не раздирали в кровь женщины руки!.. Пухла свалявшаяся шерсть, черная к черной, к белой белая.
На черной горе пастух Алхонау...
На белой горе пастух Немаян...
Пастух Алхонау с войной пришел...
Пастух Немаян за семь рек ушел...
Пастух Алхонау с войной пришел...
Пастух Немаян за семь гор ушел...
— Ты, Саба, старые новости поешь.
— Старые новости весной будут.
— А я про Ленина новость знаю.
— Кто мог тебе про Ленина рассказать?
— Во сне видела. Ленин — большой, он по горам шагал. Бросил на нас царь черное зло; как солнце в светлое утро, встал Ленин. Как морской ветер, против царского зла поднялся Ленин. Сам встал, сам пошел, царское зло сам прогнал. Он пришел к нам, в Гага-аул, веселый, и глаз узкий у него. Он к моему изголовью подошел...
— Ой, Зара! Ты правду говоришь?
— Я правду говорю.
— Какое время было, какое время!.. Как под соколиным крылом морской ветер не держится, так мы под царским крылом не держались; как туманные тучи ветер к горам прижимает, злом так давил нас московский царь. Царю не полюбились мы: мы не того народа, из которого он. А Ленин...
— Ленин — он что сказал?.. Кто чего хочет, того добивается. Подождите, вот придет весна, — грозился Кашкар.
— Мир вам.
В комнату вошел Махмуд.
— Приходи с миром.
Желтая пыль в комнате. Она щекотала ноздри, колола глаза. Женские руки перебирали шерсть. Выдергивали жесткие клочья, которые пойдут на войлок. Женские руки свирепо расчесывали шерсть на железных иглах — jна на сукно пойдет.
— Смотрю я на тебя и завидую, Кашкар: обычай, который наши предки установили, чтоб слабым, бедным и одиноким помогать, ты заставил себе служить.
— Мы — большевики, Махмуд!
— Я сам большевик, Кашкар! Мы вместе, значит, теперь?
— А что у тебя есть, чтобы быть тебе вместе со мной?
* * *
Трах-тах!.. Трах-тах!..
Раньше у Баки в доме гостьи-подружки сидели, к ней в дом приходили друзья Кашкара. Они говорили:
— Мы к вам пришли вашу голубку просить к нам в дом перелететь. Что ваша голубка на это скажет?
— Спросите у голубки-ханши нашей.
Голубка-ханша Баки ничего не говорила, она опустила ресницы, смотрела в землю: что люди скажут, если она ответит: «Да, хорошо»?.. Они скажут, что не терпелось Баки выйти замуж, что сама она напросилась в жены...
— Нет у голубки-ханши отца или старшего брата. Кто от нее свое слово нам скажет? — приставали друзья Кашкара.
Голубка-ханша Баки опять никого не назвала, ресницы опустила.
— Кто же от нее свое слово нам скажет?
— Абу-Талиб.
Так было. Теперь свадьба в Гага-ауле. Перед весной Кашкар дал Абу-Талибу для Баки сто тысяч донских денег, бязь, ситец, сатин, шелк, — сшить платье, бешметы, сорочки и шаровары пышные, как облака, — не солдатские, что теперь гага-аульские женщины носят...
Для свадьбы нарядилась Баки в шаровары, пышные, розовые, как облако, бешмет, переливающийся, как золото, в платье, сверкающее, как голубиный пух. Фата на Баки — как крыло.
Кашкар послал к мулле доверенного писать некях12.
— Разве не знаешь, Керим: надо, чтобы был Абу-Талиб со стороны Баки и свидетели.
Когда пришли Абу-Талиб и свидетели того, что нет принуждения в замужестве Баки, Гамзат-мулла положил на стол Коран и тетрадь для записи некяха, достал с полки круглый пузырек с чернилами и обгрызенную ручку с красным от ржавчины пером.
— Скажи при них, Абу-Талиб: согласна ли Баки быть женой Кашкара? — спросил Гамзат-мулла и скосил глаза на острие пера, целясь в чистую, открытую для новой жизни страницу.
— Божьим Кораном клянусь, Гамзат-мулла, валлаги, биллаги, таллаги...13 всеми силами души и тела. При них сказала мне Баки, что согласна. Родителей нет у нее...14
— Божьим Кораном клянемся!.. — подтвердили свидетели.
— Хорошо. Подайте друг другу руки, Абу-Талиб и Керим, а вы, свидетели, слушайте: согласно божьему закону, правилам его пророка и народному адату, при двух свидетелях ты, Абу-Талиб, обвенчаешь Баки, дочь Джемала, по ее полномочию, с Кашкаром, сыном Талгика, за сто тысяч рублей деньгами, за кусок бязи, за кусок ситца, за полкуска сатина и за шелк на платье.
— Сто тысяч рублей донскими деньгами, Гамзат-мулла... — предупредил доверенный Кашкара.
— Донскими, Керим!
— Хорошо, — ответил Абу-Талиб, — согласно божьему закону, правилам пророка и народному адату, при двух свидетелях я обвенчаю Баки, дочь Джемала, по ее полномочию, с Кашкаром, сыном Талгика, за сто тысяч рублей донскими деньгами, за кусок бязи, за кусок ситца, за полкуска сатина и за шелк на платье.
— Омен.
— Подожди, Гамзат-мулла, а если разведутся Кашкар и Баки?
— Тогда Баки обратно вернет часть. Я так и записал.
Гамзат-мулла снял очки и вложил их в футляр, скрепленный шпагатом. И вот повели голубку-ханшу Баки к хану Кашкару. Гремел барабан. Абу-Талиб держал ее за одну руку, за другую — подружка.
— Бедная, нана, бедная!.. — пел Ытим. — Уводят от тебя дочь... Кто тебе постель приберет?.. Кто тебе воду принесет?.. Кто тебя спать уложит?..
— У Баки нет матери, Ытим!.. О чем поешь?
— Ничего; я так пою: ей покажется, что у нее мать есть, и ей жалко станет.
Трах-тах!.. Трах-тах!..
Теснясь в узких улочках, шагали позади люди и перешептывались:
— Верно ли говорят, что Кашкар сто тысяч заплатил калыму?
— Я сам видел, когда Абу-Талиб нес мешок...
— Стыдно мне — не знаю, какого еще счастья пожелать им?
— Что им пожелаешь: если еще немного прибавится им, от нас самих ничего не останется.
— Ты не знаешь, почему Махмуд не пришел?
— Разве будет Кашкар звать на свадьбу рабочего?
Один день у Кашкара, другой день у Кашкара, третий день у Кашкара бил барабан, играл и пел Ытим.
Старшие гости сидели за столом, три дня ели баранину и галушки, халву, кишмиш, конфеты; баранину и галушки, халву, кишмиш и конфеты. Говорили гости:
— От овцы ягнята родятся, от богатства — богатство. Такого богача, как Кашкар, во всех ущельях не сыщешь теперь.
— Еще бы!
— А где наша с тобой молодость, сосед?
— На крючке, в дыму закопчена, сосед! Кушай: на чьей еще свадьбе в Гага-ауле накормят так — баранина, галушки, халва, кишмиш, конфеты.
— А плов?
— Сладкий, как сахар. До мозгов самих дошла у меня еда.
— Кушай, кушай: скоро невесту к жениху в комнату поведут, поздно будет.
— Правда. Пусть лучше плохой живот лопнет, чем хорошая еда на столе останется.
Трах-тах!.. Трах-тах!..
Подружки отпустили наконец невесту к жениху…
Трах-тах!.. Трах-тах!..
Жених к себе в комнату прокрался...
Трах-тах!.. Трах-тах!..
Жене молодой муж такие слова говорил:
— Я горячий был, думал, что буду лед ломать. А теперь что будет?
Молодая жена не отвечала. Она отвернулась к стене и сравнивала с Махмудом худого человека, лежащего рядом. Он заложил руки за голову и спрашивал, спрашивал у темноты:
— Теперь что будет?
— Ничего не будет. Хочешь — не бери меня: я — хозяйка, себе я двадцать женихов найду.
— Зачем женихов искать: пусть так будет, как есть.
Кашкар тоже повернулся к жене спиной и скоро уснул. Баки слушала его дыхание и жалела, что поторопилась и не дождалась лета, когда открыта дорога в аулы ближние и дальние, в которых много женихов.
Или ей казалось, что никогда не кончится зима?
* * *
Вот крикнули птицы над Гага-аулом. За горами тетиву натянули, полетели из-за горы пущенные стрелы-птицы.
Весна в Гага-ауле. Громко зашумела на дне ущелья мутная река, на склонах ручьи заиграли, от земли пар потянулся к небу, а в небе птицы летели и кричали.
Блестел снег на горах так ярко, что колол глаза народу. Народ весь черный, прокопченные женщины в саклях в открытые двери и окна весну ловили, мужчины на улицах на солнце грелись.
Некоторые гагааульцы всю зиму не виделись и встречались по весне, как воскресшие: не всем была охота ходить в холод из сакли в саклю. Они останавливались, отдавали и принимали салам15 и пробовали голоса, спрашивая:
— Ты откуда идешь, Али-Гаджи?
— Я снизу иду, Багауддин!
— Весна!
— Весна!
Ручьи рыли снег на склонах, и, как ручей, радовались Кашкар и Баки.
— Скоро, скоро, — говорил он, — через день, через два (какое солнце будет) дорога в город пойдет. Кто там теперь? Большевики или меньшевики? Кто теперь на Москве царь — Ленин или Николай? Если Ленин, тогда будет наше дело наверху; если Николай, тогда будет ихнее дело наверху — муллы и кадия. Ой, жена, весна настала!.
— Весна, муж!
— Надо готовить шерсть и шкуры: через день, через два в город поедем, там большой базар будет, может, продадим шерсть.
— Поедем, муж, у меня тоже есть, что в городе продать.
— Зачем ты поедешь? Я поеду и продам.
— Ты свое продашь, я — свое.
— Разве мы не большевики, жена? Мое — твое, твое — мое!
— Мое — мое, твое — твое.
Не нравились Кашкару такие слова, но молчал он: не знал, какая теперь власть за горами.
* * *
Гассан, сын Лечи-Магомы, встретил Махмуда около мечети. Махмуд сидел на камне и поглядывал на окна кашкаровского дома. Вероятно, ему хотелось видеть Баки: настала весна, тает дорога в город, скоро идти Махмуду в Баку, на промысла. И Гассану хотелось выйти из Гага-аула. Осенью, когда погиб из-за Баки Лечи-Магома, детям его пришлось зарезать для поминок быка и овец. Теперь братья много думали, сумеют ли они вспахать поле, и начали поговаривать, чтобы одному из них пойти в город и, заработав деньги, вернуться с новым быком.
Гассан поприветствовал Махмуда и спросил:
— Какая жизнь за горами — ты знаешь? Разоряют еще промысла в Баку или нет? Турки и немцы ушли из Баку? Большевики или меньшевики остались в Баку? Ты пойдешь этим летом в Баку?
— Алейкум салам, Гассан! Конечно, пойду я в Баку, — улыбаясь множеству вопросов, отвечал Махмуд.
— Кто там, на промыслах, хозяин теперь, ты знаешь?
— Кто в Гага-ауле от осени до весны знает что-нибудь? Думаю, там большевики — хозяева.
— Осенью не придешь домой, Махмуд!
— На другую весну приду...
— Приходи осенью: меня в Баку повезешь.
— Значит, и тебя нужда опутала...
Какая жизнь за горами — никто не знал. Если турки опять пришли, там шариатский закон; если Красная Армия опять пришла, — большевистский закон; если белая армия, Деника остался, — царский закон.
— Кашкар или мы хозяевами будем — скажи мне, Гамзат-мулла?
— Коран читай, Джабраил-кадий... Я думаю, что если теперь мы вакуфы бедным в аренду отдадим, — они на нашу сторону станут.
— Вакуфов мало, бедных много. Одним беднякам дадим — другие на нас серчать будут и с богатыми соединятся. Лучше богатым дадим: их мало, вакуфов мало.
— Какая жизнь настала, какая жизнь!.. В Коране о такой жизни ничего нет: самим надо быть такими мудрыми, как Коран.
— Пророк — да будет благословенно имя его! — сказал: «Первые будут первыми». Мы первыми были до сих пор.
— Будем. Омен.
* * *
Летели птицы над Гага-аулом, и кричала весна. Черные быки мычали в стойлах, на горных склонах черные ручьи шумели, а в небе — черные птицы. Горский народ! Работа скоро! Скоро пашню от камней очищать, скоро красноглазым волам сохой тощую землю взрывать, скоро лопатами каналы чистить, скоро из Кизляра отары придут, скоро шерсть стричь, шерсть мыть, хлеб сеять, хлеб собирать, — кипеть. У кого мозг не кипит летом, у того зимой не кипит котел.
Абубакар решился просить Кашкара.
— Дело к тебе есть: шерсть не нужна? — спросил он, поймав Кашкара на площади.
— Шерсть?.. Нет, не нужна: шерсти у меня много.
— Я знаю, Кашкар, что шерсти у тебя много. Купи все же...
— Откуда шерсть у тебя, Абубакар? Прошлую шерсть я купил у тебя.
— Будущую шерсть купи, добрый человек: отары придут — шерсть будет.
— Никому не нужна теперь шерсть: два-три года лежит без дела.
— Деньги у тебя тоже лежат. Купи, хороший человек!
— Донские деньги есть у меня.
— Донские деньги не возьмет никто.
— Кто знает, какая жизнь за горами: если белая армия осталась, тогда я потеряю, ты выиграешь. Если Красная Армия осталась, тогда я проиграл и ты проиграл.
Абубакару не хотелось брать донские деньги.
Он притворился, что уходит, но сейчас же снова остановил Кашкара:
— Донские деньги, говоришь?
— Донские деньги, говорю, Абубакар!
* * *
Дагир пошел и узнал: открылся путь в горах, большевики на белом свете хозяева.
Крикнул Дагир по Гага-аулу:
— Кашкар, купец, в город караван собрал. Кто хочет с Кашкаром идти? Кто караван в город проводит и привезет что-нибудь обратно, тот Кашкару немного даст: кто керосин привезет — керосин, кто кукурузу — кукурузу, кто бязь — бязь.
В Гага-ауле кое-кто имел осликов, и все, кому надо привезти из города больше шестидесяти пяти — восьмидесяти кило, ходили к Кашкару за лошадью, за мулом. Они платили Кашкару, когда ездили покупать товар, половину кукурузы и керосина и одну треть бязи или ситца. Велик аллах! Что делал бы без Кашкара гага-аульский народ? А теперь Кашкар еще придумал караван.
— Стоп, жена, молчи! — говорил Абубакар. — Пойду и я с караваном Кашкара.
— Стар, а глуп: один раз ходил с Кашкаром, — не хватит с тебя?
— Один раз ходил — он мне донские деньги дал. В Гага-ауле темный народ, в городе — хороший: там будут донские деньги брать. Кукурузу куплю. Стоп, жена, молчи!
— Пойдешь или нет в город, лучше не станет.
— А Дагир что сказал?.. Большевики кругом... Теперь лучше будет.
— Сам Кашкар не большевик разве?
— Кашкар большевик, и я большевик.
— Что у тебя есть, чтобы тебе вместе с ним большевиком быть? Он большой большевик, а ты маленький.
— Стоп, жена, молчи!
Весенние ручьи вниз текли, бедные люди вверх ползли, ползли к Кашкару.
— Ас-салам алейкум, Кашкар. Ты в город, слышал, караван гонишь?
— Да, я хочу быть вместе со всеми людьми: копратив хочу.
— «Копратив»— что такое? Какой копратив, почему копратив?
— Копратив — такое дело: один человек — человек, два человека копратив, и три, и четыре, и двадцать. Это большое дело, настоящее большевистское.
— Потом что будет?
— Потом хорошо будет.
— За что?.. Объясни, пожалуйста!
— За все, добрый человек, хорошо будет. Копратив — такое дело: каждый свою часть имеет. Я лошадей, мулов, ослов даю — это мой пай; ты, Абубакар, свою работу даешь — это твой пай. Доход поровну.
— Это — большевистское дело, Кашкар?
— Большевистское.
— Дагир пришел к нам и сказал: «Кто обратно привезет что-то, тот Кашкару немного даст».
— Мою часть даст. Больше ничего не надо мне. Я же сказал, что доход поровну.
— Раньше мы не так же ездили с тобой?
— Коротко скажу: кто согласен, пиши на этой бумаге свое имя; кто не согласен — домой.
— Пиши меня, добрый Кашкар!
— Пиши меня, мудрый Кашкар!
Пиши меня, славный Кашкар!
— Пиши!
Кашкар вернулся из лавки с бумагой, на которой стояло много имен: большой кооператив собрался в Гага-ауле.
— Сколько лет люди в город с товарами не приезжали... Ай-ай, какой базар в городе будет, жена!
— Если каждый столько привезет, сколько мы с тобой...
— Тогда места не хватит в городе.
Каждый посев дает свои плоды. Хорошая для Кашкара весна пришла: шерсти и фруктов сухих много, в город поедет — мануфактуры много будет.
— Товарич жена, достань: там немного конфеты были. Все равно скоро из города свежие привезем.
— Привезем, привезем, товарич муж.
Кому бы нам твой дом продать, товарич жена?
— Время придет, сама продам, товарич муж, — отвечала Баки. Она считала хозяйкой себя.
* * *
Караван увез из Гага-аула шерсть, сушеные фрукты, ромашку и вернулся с мануфактурой, кукурузой и керосином.
Мудрый человек Кашкар; никому в городе большевики не дали ничего, а ему дали, потому что — кооператив. У людей, которые поодиночке приходили, солдаты все отняли, а Кашкара на склад привели и обменяли горский товар на городской.
Мудрый человек Кашкар — глупый Абубакар: он в город без хлеба ушел и без хлеба вернулся, его донские деньги никто не взял: Денику за море прогнали.
— Значит, и в Гага-аул придет скоро Советская власть, — рассуждал с женой Кашкар, — значит, кончится шариатский закон, и закят16 мне перейдет: кто другой сумеет взять закят у гагааульцев? Значит, отнимут вакуфы у муллы и кадия. У кого еще в Гага-ауле столько буйволов, быков, коров, ослов и коней?.. Кто, кроме меня или без меня, вакуфы вспахать сможет?..
Когда пришел караван из города, жена сурово встретила Абубакара.
— Ты — глупый, человек, муж!
— Почему? — спросил Абубакар.
— Ты, на воде сидя, разжиреть хочешь... Пойди и скажи Кашкару: «Хлеба дай и возьми донские деньги обратно: вода — донские деньги, воду мне жена носит...»
Абубакар передвинул с макушки кудлатое гнездо папахи, прикрыл ею маленькое лицо, в седой стриженой поросли которого, точно стыдясь, прятались неживые глаза. На площади он подождал, чтобы освободился Кашкар от других людей, и, загородив ему дорогу, попросил:
— Абубакар — бедный человек, а бедный человек что может сказать: хлеба нет, одежды нет, донские деньги есть. Вода — донские деньги: воду мне жена носит. Ты, Кашкар, мудрые слова говорил: «Копратив». Копратив — мы тебе помогли, ты нам помоги. Ты сказал...
— Я сказал: мои лошади, мои ослы — ваши покупки. Кто в городе мануфактуру купит и на моем осле привезет в Гага-аул, от того одна пятая; кто керосин или кукурузу — половину. Вот такое дело «копратив». В город вы шли около моего товара и моих лошадей, в городе я с большевиками дело имел, а большевики мне дали за то, что я сам большевик, что иду я против муллы и кадия и хочу у них отнять вакуфы... А вы помогли мне чем-нибудь? В городе ничего не купили, в Гага-ауле за муллу держитесь и еще идете ко мне с просьбами.
— Земля всем нужна, поэтому и держимся за муллу.
А когда она моей будет?
— Тогда все будем за тебя держаться.
— Правильно говоришь ты, мудрый Абубакар! За правильные слова я дам тебе пуд кукурузы. Мало будешь есть — дотянешь до урожая, жадным будешь — нет. Аллах что сказал?
— Все, что в книге написано, сказал аллах.
Кашкар привел Абубакара к себе:
— Эй, жена, дай ему кукурузы: он хороший человек.
— Много дней твоей жизни, Кашкар, дважды много, если бы ты дал мне еще пуд: без него не будет у меня урожая.
— Дай ему еще пуд: Абубакар обещает мне половину урожая дать.
— Бисмилляги ррахмаии ррахим...17 Обещаюсь и клянусь всемогущим богом... Валлаги, биллаги, таллаги...
Когда Абубакар ушел, Кашкар говорил Баки:
— Из двух пудов для меня десять вырастет.
* * *
Кашкар и Баки — главные в Гага-ауле. Гамзат-мулла и Джабраил-кадий. У всех остальных — ветер в руках...
Теплый был ветер и ласкал бедных людей. В белых одеждах, они рассыпались сегодня по склону, скованному каменными изгородями вокруг пашен. Их спины напрягались над хрупкими сохами, визгливо цеплявшимися за скалы, бедно прикрытые рваной тканью почвы. Скрипели ярма на недвижных бычьих шеях.
Мулла и кадий глядели на человеческий труд, сидя на камнях около мечети, над острием многоярусного сцепления гага-аульских саклей. Им открывалась вся долина гага-аульская, замкнутая громадами гор. Казалось, что даже река — около нее кудрявились весенним цветом сады — не выбегает отсюда и впадает в сырые и гулкие подземелья, скрытые каменными массивами, на острых верхушках которых еще держался снег.
— О, аллах, аллах!.. А ведь нам при царе спокойнее было, Гамзат-мулла, хоть и неверный был он.
— Валлаги, биллаги, ты говоришь правду, Джабраил-кадий. Что делается, а? Вчера Исса убил Эмина и пришел домой, как с покоса. Завтра он меня или тебя убьет, и опять не арестуют его?.. Кашкар подговаривает не платить за вакуфы. Что еще надо этому человеку, посмотри, ведь не половина людей, — все пашут на его быках.
— Хоть бы он умер: спокойнее было бы... Завтра вода по канавам в сады пойдет. А что говорили люди на поминках? «Я, — говорит один, — не пущу ее дальше своей плотины». — «Я тоже не пущу», — другой говорит... Шариат делается ничтожнее кизяка... Хороший плов на поминках был.
— Да... Хорошо муллой там быть, где и народу много живет, и умирает много. Вот в Стамбуле.
— Йе о-ох, Стамбул!
Мулла и кадий увидели далеко на горе три точки. Нет — пять. Двое шли по тропинке пешком и коней своих тянули за повода, а один верхом на коне сидел: двое русских и один горский человек в Гага-аул ехали.
— Зачем? Опять русская власть в Гага-ауле будет? Опять пристав? Разве для этого кричал народ «газават»? Бисмилляги ррахмани ррахим... — шептали друг другу мулла и кадий. Черные кисточки, как горсти назойливых мух, взлетали на фесках.
Они замолчали, увидев в солнечной дали, как спустившиеся с крутизны путники остановились и сели на коней.
— Конечно, русские, — вздрогнул Гамзат-мулла.
— Осто пиролла18, — поднялся и кадий. — Пойду домой, — прибавил он, тронув феску, и, не сгибаясь, точно слепленный из тяжелой, еще влажной глины, перешагнул через низкую изгородь.
Один русский человек, один горский и женщина — тоже русская — въехали в Гага-аул.
— Кто есть в Гага-ауле большевик? — спрашивал проводник.
— Кашкар и Баки — большевики в Гага-ауле, — отвечали ему.
— Где они живут?
— На горе.
Они стали подниматься на гору.
Кони внесли их в крытую улочку; с одной стороны, из крытых загонов, на них смотрели грустные глаза коров и овец, с другой — толпились женщины в черных дырах дверей. Они шептали:
— Большевик!.. Большевик!..
В улочке скопились многовековые лужи скотской мочи, в них, точно во мху, вязли кони и, выдирая копыта, брызгались заплесневелой жижицей.
— Большевик! Большевик! — встречали приезжих женщины и провожали их, посмеиваясь над приехавшей, растерянно обеими руками управлявшей конем.
Наконец путников ослепило солнце. Оно вонзилось лучами в башню.
— Пять!— вскрикнула женщина, посчитав этажи. — Неужели они это строили?
— В наследство получили, Федотиха!— засмеялся русский.
— Без шуток: мы приехали к людям.
— У тебя история с сегодняшнего дня начинается?
— Романтику разводишь...
— Кто здесь Кашкар и Баки?— спрашивал проводник гагааульцев.
— Там, — отвечали ему движением руки вверх и быстро прятались в черную дыру.
’ — Большевик!.. Большевик!..
Мимо закопченных медных котлов, в рост человека, мимо сводчатых дыр в каменных стенах саклей, темных днем и ночью, сквозь кислый дым кизяка, через зловоние луж вышли трое на чистую площадь. На ней стояла мечеть, голубая, как аравийский оазис, с минаретом, как небо в новолуние, и Гамзат-мулла, и Джабраил-кадий в папахах вместо турецких фесок.
— Мы есть большевики в Гага-ауле, — вышел навстречу приезжим Кашкар. — Гость — посланник божий.
— Недурное для большевиков начало. Это он приглашает нас, Федотиха! Войдем!
Баки приняла от гостей уздечки, а горскому человеку помогла сойти с коня: придержала стремя.
Три гостя приехали к Кашкару. Один гость — горский человек. Его дело маленькое: он смотрел на русского гостя, слушал, — обращаясь к Кашкару, говорил; на Кашкара смотрел, слушал — русскому человеку говорил.
Второй гость — русский человек. Расспрашивал.
Третий гость — женщина. Молчала и смотрела поочередно на своего товарища, на Кашкара, на толмача.
Кашкар много рассказывал гостям. Понимал по-русски, но сейчас — словно ничего не понимал. Слушал, обдумывал, пока переводил толмач, и тогда отвечал:
— Мы бедный, горский народ. Наша курица тоже большевик: земли мало. Земля у муллы и кадия: вакуфы...
— Мы темный народ, мы горский народ. Мануфактуры, керосина нету, и кукурузы нет. Народ ожидал: большевики приедут — все будет...
— Я сам говорил (хочешь, весь народ собери и спроси): «копратив» надо. Темный народ не понимает, темный народ думает: большевики караван сюда пригонят и даром давать будут. Это какое дело?
— Про женщин у моей жены спроси. Ее женщины очень любят, так любят (Кашкар обе руки соединил в пригоршню и покачал ими)... Она человека убила.
— Как убила?
— Когда твоя женщина захочет, — моя женщина ей сама расскажет. Обижал ее один сильный человек — она убила...
— Пропала баранта. Кто осенью в Кизляр послал, тому обратно не возвращается. Народ говорит, что камунисты баранту отнимают.
— Коммунисты?
— Камунисты. Валлаги, биллаги, — камунисты. Кто осенью в Кизляр послал, тому обратно не возвращается. Кто в горах оставил, тот по утрам в хлеву не находил: помирали. Корма не было.
— А вы кто: большевик или коммунист?
— Я большевик... А он?— пытал Кашкар переводчика, выставляя вперед застывшую маску своего лица. Он не поверил, когда переводчик сказал, что Федотиха не жена русскому, но товарищ, и спросил, тая насмешку: — А спать они вместе будут?
— Как придется: вместе уложишь — вместе, нет — нет.
— Валлаги! Кажется, ты не большевик, но камунист.
— Почему?— спросил русский.
— Так... — уклончиво ответил Кашкар и вышел к Суанет сказать, чтобы она испекла к ужину пшеничные лепешки.
* * *
Три гостя приехали к Кашкару. Тридцать три собрались около мечети, которая радует людей в каменнозубом оскале гор.
— Какая разница, — говорил Джабраил-кадий, — пристав приезжал к Кашкару, теперь большевик приехал: что было, то есть!
Он сидел, как птица, сутулясь, с несгибающейся спиной, оглядывал круг седых бород, и продолжал, точно диктуя:
— Когда пророк, да будет благословенно имя его, побеждал румов19, когда калифы побеждали персов (персы были нечестивыми в те дни и поклонялись огню), — он поровну делил добычу между воинами. А теперь что?.. Большевики — Кашкар и Баки — стараются захватить все для себя.
— Кого пророк больше любит: воина, купца или сельского человека?
— Воина: в Коране сказано — «Умирайте на пути моем».
— Купца: был купцом пророк.
— Земледельца: пророк пастухом был. Таких, как вы, бедняков любит пророк. Было такое дело, — рассказывал Гамзат-мулла, — сто тысяч, четыре тысячи и двадцать тысяч шейхов собрались в Мекку. Бог послал ангела Джабраила. «Пойди спроси: утром идущий пастух видит то, чего я не вижу; он видит и невидимое — раз в год выходящего царя. Пусть скажут: почему невидимое мне, на семь небес поднимающемуся, через семь земель спускающемуся, он видит?» Потом Джабраил сошел в Мекку: «Ас-салам алейкум, о тамадаиы20 шейхов! Наш бог просит вас дать ответ: почему утром выходящий пастух мне невидимое видит и видит невидимое раз в год выходящему царю?» Думы думать стали шейхи, не зная, какой ответ дать, чтобы вернулся ангел Джабраил... Один, одеянием очень убогий, с печальными глазами, в двух черкесках, с одетыми наскоро на ноги лаптями, встал — да очистит бог его тайну!— шейх Кунта-хаджи. «Не печалься, не горюй, Джабраил! От себя дать ответ мне совестно перед тамаданами; без ответа возвратить тебя считаю большой виною. Дам я тебе ответ. Скажи богу: «Утром идущему пастуху баранты как такого же пастуха не видеть?.. В год раз выходящему царю как такого же царя не видеть?.. На семь небесных склонов восходящий, с семи земель нисходящий, себе подобного царя ты не увидишь, — скажи богу. Если хочешь узнать, кто дал ответ, — еще во чреве матери тобою избранный пастух Кунта-хаджи ответ дал, — скажи богу. Теперь, Джабраил-ангел, с миром иди...». К богу возвратился Джабраил, бога боясь, телом дрожа. «Ответ принес тебе, — богу молвил, — ответ, данный сотворенным тобою печальным Кунта-хаджи»... Тогда сказал бог: «Если бы Кунта-хаджи не был там, я бы не послал тебя за ответом, Джабраил-малик».
— Ох-ох, ох!..
— О, осто пиролла, осто пиролла!
— Пророк, да будет благословенно имя его, в юности был пастухом. Поэтому в день, когда приходят мертвые на Страшный суд, он узнает пастухов. Проповедует же он: «Господь бог мой по великой милости своей наставил и вразумил меня, что каждый нищий предстанет на тот свет раньше богатого за половину дня. И, как я есмь нищий из нищих, я проповеди слушал всегда, лучше пребуду за нищими, нежели за богатыми, и прежде услышу их, ибо изо всех нищих братьев своих полагаю первым себя».
— О аллах, спаси и сохрани нашего князя Магомета и всех потомков его...
— Слушайте хадис который я вспомнил, правоверные! Пророк рассказал однажды: «Явился мне Джабраил, и я спросил: «О брат мой Джабраил, сойдешь ли ты после смерти моей на землю?..» Джабраил ответил: «Сойду десять раз. В первый раз я сойду и отниму изобилие земли. Во второй раз отниму любовь между мусульманами. В третий — любовь между братьями, и сестрами, и родственниками. В четвертый раз я приду и отниму стыд у женщин. В пятый отниму справедливость у властителей. В шестой — терпение у бедных. В седьмой — милосердие у богатых. В восьмой отниму знание у ученых. В девятый отниму Коран. Приду в десятый раз и отниму веру...» Смотрите, правоверные, смотрите! Нет больше изобилия у земли, любви между мусульманами, нет любви между братьями, и брат убивает брата, а племянница дядю убивает; разве есть стыд у этой женщины, разве есть справедливость у властителей, если она еще ходит по земле?.. Разве не пропадает терпение у бедных? У богатых ли мы ищем милосердия? Кто видит его?.. Да избавит нас аллах от нарушения веры в будущем, ибо тогда настанет последний час, и взойдет солнце с запада.
— Осто пиролла, — шептали тридцать три рта.
— Бисмилляги ррахмани ррахим! Нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его! Благочестивые, к молитве! — запел на минарете муэдзин.
Мирно и тепло, как коровы в звездном хлеву, дышали в ночь нагревшиеся за день скалы.
Федотова и Казицкий сидели на крыльце у Кашкара и смотрели на кряжи гор, тянувшие морды к небу, на торчащее жесткими углами нагромождение гага-аульских саклей, на шелковую нить реки, брошенную на дно ущелья.
— В какую мы эпоху попали?— хмечтательно, не думая, что ей кто-нибудь ответит, сказала Федотова.
— У тебя бабья манера: или спорить, или в евангельские тексты пускаться... как жена-мироносица при кафедральном соборе... Я думаю, что здесь много эпох, — подхватил ее вопрос Казицкий.
— Сам всегда начинаешь.
Кашкар прислушивался к начатому спору, прильнув настороженным ухом к стеклу и отставив пятерню, чтобы его не окликнула и не выдала Баки. Его волновали частые и непонятные упоминания имени Ленина, торгово-ростовщического капитала, патриархального строя и феодальных отношений; несколько обрадовала «кооперация» и вовсе запугала «классовая борьба».
Хоть и молчала в постели Баки, Кашкар замахал ей, услышав, как сказал Казицкий:
— Я хочу хозяина в работу взять.
— С ума сошел! — всплеснула руками Федотова.
— Определенно.
— Да ты вспомни его «копратив», «большевики и камунисты», «мануфактура и керосин».
— И «вакуфы» помню... Ему легче отбить их у муллы, а нам у него.
— Я решительно возражаю.
Казицкий не ответил и отошел от дома, шурша ногами по мягкой, нежной траве. Он споткнулся о каменную ограду мечети и, приглядевшись, увидел замкнутых в круг людей. Острым чутьем Казицкий понял настороженную, заговорщическую враждебность их тихого говора.
А Федотова пошла в комнату.
Скрипнула дверь, и. вошедший Кашкар указал ей на постель.
— Твоя, — сказал он, отвернув одеяло, и погладил ребром ладони его пухлую складку.
Федотова силилась понять Кашкара. Он приближался к ней и спрашивал:
— Твоя большевик... твоя большевик... Моя тоже.
Он помнил, что не должен говорить по-русски, и попытался заменить слова ласковой улыбкой, которая зияла, как язва. На мгновенье она показалась страшной, но тотчас Федотова звонко рассмеялась в лицо хозяину и позвала в окно:
— Казицкий!
Кашкар убежал к Баки и, когда успокоился с женой, сказал задумчиво:
— Напрасно ты для него на полу стелила: наверное, они легли вместе.
— Муж и жена они?— спросила Баки.
— Нет, камунисты. Жены общие у камунистов, — сказал он и вздохнул. — Иэ-эх!.. Много можно отдать за русскую женщину!
* * *
Утром Дагир ходил по Гага-аулу и кричал:
— До полудня мужской, после полудня женский митинг будет!.. Большевики приехали!..
На мужском митинге русский большевик рассказывал гагааульцам, что такое Советская власть, и толмач переводил.
Казицкий искал слова, которые были бы понятны первобытным гагааульцам, не знающим кровавого чада войны. Они покорствовали здесь своему аллаху, в проклятие давшему им Кашкара с его лошадьми, ослами и мулами; Джабраил-кадия с его знанием законов и сроков полевых работ; Гамзат-муллу, дарующего успокоение мертвым и утешение живым. Они не верили русскому и тому, что они от него слышали: «Земля — бедным, счастье — бедным, власть — бедным...»
— Ломать надо все, по-новому строить надо, — звал Казицкий и напоминал гагааульцам все, что они вытерпели от московского царя, когда он держал их в темноте и голоде, обрекая смерти.
— Теперь прошло это время; новая жизнь открыта перед вами, берите от нее все, чтобы быть хозяевами ее. Яшасун21 Советская власть, яшасун непобедимые кызыл-аскеры!22— провозгласил Казицкий в конце речи, но голос его утонул в смущенном безмолвии.
«Враки!.. — думали гагааульцы. — У этих русских на языке одно, на уме другое... Кто может сделать землю из гага-аульских камней, из нашего тряпья — наряды?»
Тогда выступил Кашкар.
— Правоверные братья мои! Сколько лет мы живем на свете, а никогда таких справедливых слов не слышали ни мы, ни отцы, ни деды наши. Одним словом, все правда, что говорил он. А я вам не говорил то же самое? Я вам не говорил «копратив»? Я вам не говорил про вакуфы? Какое дело, что мы несем ушурзакят23 мулле, что мы его кормим, одеваем, обуваем?.. Нехорошее дело. Разве он от своих трудов таким жирным стал?.. Пророк сказал разве, что мы должны кормить таких людей?
Гассан, Лечи-Магомы сын, крикнул Кашкару из-за множества голов и спин:
— Какой такой копратив?.. Какой вакуф?.. Мало ему, — он еще это хочет себе забрать!.. Он и Баки нас живыми хотят съесть!..
— Кто такого грязного, как ты, в рот возьмет?— засмеялся Кашкар. Его поддержали стоящие впереди, а задние замахали на Гассана руками.
— Трусы!— сказал им Гассан.
— В тяжелую минуту и свинью родной матерью назовешь, — ответили ему.
— Правоверные братья мои! — надрывался Кашкар, уже забывший о Гассане. — Мы все радоваться должны, мы все смеяться, обнимать друг друга должны: какое время большевики сделали!.. Настоящее время... Яшасун товарич Ленин!.. Яшасун большевики! Яшасун Советская власть!..
— Яшасун!— недружно ответили люди.
Казицкий опять начал говорить, и переводил толмач:
— Товарищи! Теперь вам надо организовать власть: выбрать сельский Совет и сельский исполком. Это первое дело. В сельский Совет и исполком не могут ни выбирать, ни избираться такие люди, которые за чужой счет живут: кулаки, муллы и те, кто были при царе городовыми и приставами. Очень бы хорошо у вас, в ауле, организовать партийную ячейку.
— А что за это давать будут?
— Мануфактуру, керосин, соль, чай и сахар, — пояснил Кашкар.
— Нет, ад!— перебил Гамзат-мулла.
— Что?
— Ад!.. Адом воздаст за это аллах-мститель. Во имя бога милостивого и милосердного!.. Отчего и к чему бежите вы, правоверные братья мои?.. Разве есть сухое или мокрое, о чем не было сказано в книге? Про все это в Коране давно написано.
— Где написано?
— В книге, в Коране.
— Где в Коране написано?
— Правоверные братья мои!.. Когда имама Шафия испытывал безбожник, когда безбожник спросил его: есть ли бог и где бог пребывает во вселенной, — имам Шафий что ответил?.. Он сказал: «Принесите мне чашку молока», — и имаму Шафию, да прославится тайна его познаний, принесли чашку молока. И имам Шафий спросил безбожника: «Признаешь ли ты, что это молоко?»— «Да, признаю», — ответил безбожник. И имам Шафий спросил безбожника: «Признаешь ли ты, что в этом молоке содержится масло?» — «Да, признаю», — ответил безбожник. И имам Шафий сказал безбожнику: «Укажи, где именно находится масло». Аллах посрамил безбожника и вознес мудрость имама Шафия...
— Во имя бога милостивого и милосердного!.. Нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его!.. Благочестивые, к молитве, к молитве, благочестивые!— запел муэдзин на минарете.
Благочестивые пошли на молитву, и на митинге остались Кашкар, один русский и одна русская женщина. Толмач тоже ушел в мечеть.
— Ничего, не бойся, Федотиха! Не сегодня, так завтра. Сегодня — мулла, завтра — мы, — утешал русский своего товарища.
Перед женским митингом в каждой сакле был свой митинг. Потом две соседние сакли устраивали вместе второй митинг, потом третий, четвертый.
— Паху — старая: о ней жалеть никто не будет... Пусть она от нашего дома и от вашего дома пойдет на митинг.
— Пускай от нашего дома она тоже будет.
— Как можно три дома одной старухе поручить? У вас своя старуха есть: пускай сама идет.
— Гигили?.. Какая же она старуха, Ума-хаджи?.. Она еще замуж выйти может, а кто ее возьмет, если она будет на митинге?
— Нет, не могу, Мурза! Пускай идет Гигили. Люди говорили, что мануфактуру давать будут на митинге. Разве наша Паху может донести мануфактуру на три дома?
— Если мануфактура будет — мы все на помощь пойдем...
На площади ждал женщин Гамзат-мулла.
— Будь проклята та, которая будет на сборище джиннов24! Кто знает, как называется место, из которого приехала эта русская? Оно называется джинн-отдел25. Кто знает, что говорит Коран о джиннах?.. Коран говорит: «Есть в человеческом роде ищущие покровительства у джиннов, но это в них только избыток честолюбия». Вы хотите уйти от предопределения божьего, но куда дальше могил на кладбище успеете дойти вы? И тогда кто из нас, правоверных мулл, станет хоронить вас, нечестивых?
— Пощади нас, Гамзат-мулла!.. Мы — бедный народ, мы — несчастные. Разве ты не знаешь, что вместо шаровар мы носим солдатские подштанники, что нашими одеждами служит шерстяная ткань?
— Сам пророк, да будет благословенно имя его, ходил так.
— Ты так не ходишь, Гамзат-мулла!
— Я мулла.
— А мы женщины. Разреши нам хоть посмотреть!
— Отвратите глаза свои от дел нечестивых!
— Мы прикроем их ресницами, Гамзат-мулла...
— Разве переспоришь вас, ведьмы пещер?..
Он ревниво не уходил с площади и, хотя его и отговаривал Джабраил-кадий, прервал речь стриженой женщины.
— Она хочет, чтобы все в кахпа превратились!— кричал он.
Женщины вздрагивали: угрозы его были сильнее речи русской женщины; смущаясь, переводил толмач. Так же, как после Казицкого Кашкар, Баки поднялась на крыльцо и спросила женщин:
— Кто из вас не знает меня, кто во всем ауле или ущелье не знает меня? А почему?.. Я за свое право заступалась. «Пусть тот погибнет, кто меня погубить хочет», — я сказала, я сделала.
— Правильно, Баки!.. За это мы любим тебя.
— Я сказала, я сделала, и все мы так поступать должны. В этом моя сила была. Меня замуж никто не выдал, — я выбрала себе мужа. Я стала женой, но мой дом остался моим: я мужу не отдала его. Сад, покос и земля, которые моими до замужества были, моими остались. Кто из вас помнит такие дела в Гага-ауле, во всем ущелье, в горах?
— Никто не помнит.
— Никто не помнит. Очень хорошо... Теперь подумайте, что будет, если каждая из вас такая же, как я, будет? Очень хорошо будет. Каждая из вас больше будет иметь, каждая из вас большевик будет. Большевик — тот, который много хочет...
— Нам много надо, Баки!
— Мануфактуру!
— Хлеб!
— Овец!
— Здоровье!
— Свободу!
— Деньги!
— Шаровары!
— Соль!.. Соли нет...
— Дрова надо!..
— Все надо!.. Все надо... Ничего нет!..
— Мануфактуру, мануфактуру!..
Над Гага-аулом метались встревоженные птицы — кричали в Гага-ауле женщины. Они показывали русской красные веки, окруженные рубиновыми венчиками трахомы; провалившиеся носы, из которых медленно стекал гной; десны — словно из черного дерева, где, как тусклые осколки слоновой кости, видны были изгрызенные зубы; лысые головы, точно сладкие от парши. Они подымали свои лохмотья, и русская видела ноги, затянутые в бязевые солдатские кальсоны, грязные и старые; они разводили сухие, скрюченные руки, и из прорезей платьев выпадали вялые колбаски старушечьих грудей.
— Мы были молоды! Были, были!— кричали женщины, и каждая жадно хотела показать еще больше. Вот чесотка. Вот ноги, сведенные ревматизмом. Вот глаза, ослепленные бельмами. Вот скулы, вывороченные мужьями.
Что ты дашь им, Федотиха?.. Много им надо.
— Показывайте! — молила женщин Баки. — Чем больше бед, тем больше счастья даст вам эта русская! Просите!
Они показывали свои завшивевшие лохмотья, обнажали язвы и бросали ей тряпки, скрывавшие их.
— Смотри, что есть у нас!
Что ты дашь им, Федотиха? Много им надо. Разве сдвинут твои плечи каменные плиты веков, под которыми улеглись женские страдания?
— Дорогие сестры!— силилась перекричать Федотова. — Дорогие сестры!.. Революция...
Никто не слушал и не слышал ее...
Мужья разогнали женщин. Федотова вернулась в дом и села на стул, отвернувшись от Казицкого. Он шагал по комнате и поглядывал на нее. Собрался заговорить, но толмач просунул в дверь заговорщическую голову.
— Товарищ Федо! — позвал он.
— Что?
— Дело есть.
— Говори скорей!
— Скорей нельзя говорить, тихо надо. — Толмач вошел в комнату и старательно прикрыл за собой дверь. —
Тихо надо, товарищ Федо, — повторил он. — Наша хозяйка, наша хозяин такие люди, такие люди (он сжал пальцами что-то невидимое): душат... Конечно, душат: все боятся. Товарищ Федо, пожалуйста, потихоньку на улицу выйди, потихоньку на улице гуляй туда-сюда. К тебе большое дело есть.
— Вот что!.. Иду!— порывисто потянулась Федотова за кепкой.
— Тихо надо, товарищ Федо!
— Все сразу хочешь, Ася! — засмеялся Казицкий. Говорит же тебе: «Тихо надо». Это значит, что ты выйдешь погодя, как бы ненароком. Верно, Ахмет?
— Верно. Я ее там ждать буду.
Казицкий продолжал разговаривать с Федотовой — убеждал ее сделать Кашкара председателем ревкома, а Баки — женделегаткой. Он ставил вопрос трезво: сейчас у гагааульцев нет более прогрессивных групп. Не призывать же к власти муллу и кадия, по-своему закабаливших бедноту! Пусть Кашкар дерется с ними: сейчас он — наш союзник.
Федотова ушла, взволнованная спором, и, скользя, спускалась по ступенькам, выдолбленным в граните многовековой ходьбой гагааульцев.
Солнце быстро опускалось за горный хребет, и в ущелье сгущались тени. Федотову пугали теперь крытые темные ходы, которыми она въезжала в аул: в них чудилась притаившаяся опасность. Она решительно свернула на утрамбованную графитовую площадку, но скоро поняла свою ошибку: эта была круто обрывающаяся крыша сакли. С края ее Федотова увидела двор, на котором женщины вкусно мяли для кизяка коровий помет. В стороне от них стояли козьи кожи, распятые для сушки на прутьях.
Женщины увидели Федотову, перестали работать и начали громко разговаривать, по-видимому о митинге. Из гостеприимства они не забросали ее комьями навоза. Она вернулась назад и смело окунулась в галерею, в которой грозили обрушиться засыпанные графитом древние балки, упершиеся в скалы, и ступала в густые лужи, не замечая белых камней, разбросанных для пешеходов.
— Федо, иди сюда!— неожиданно схватил ее за руку Ахмет и втянул в черное отверстие сакли. — Вот, — шепнул Ахмет и вложил в руку Федотовой чью-то холодную и твердую руку, — вот Айша. Айша — двоюродная сестра Баки, твоего хозяйки, — порывисто продолжал толмач. — Баки его отца убил. Баки богатый — Айша бедный. Она еще два брата имеет, четыре сестры. Смотри!
Федотова посмотрела: на наре, шедшей от стены до стены, торчали взлохмаченные, закутанные в лохмотья фигуры детей, щуплых и костлявых.
— Смотри, Федо: это сестры Айша. Ее брат — два брат — в сад работать пошел.
— Спроси, что ей надо, Ахмет.
— Ей ничего не надо. Ее отца Баки убил — ей ничего не надо.
По-прежнему блестели в темноте глаза Айши.
— Может быть, ей все-таки надо что-нибудь? Спроси, Ахмет! Может, она уехать хочет? Будет учиться?
— Учиться?
— Да, мы отдадим ее куда-нибудь.
Учиться без конца можно.
Ахмет заговорил с Айшой. Она боязливо слушала его и не верила, поглядывая на Федотову.
— Айша говорит, что Баки не пустит ее.
Какое Баки дело до нее?
Большое дело: они кровники.
— Никакая Баки ей ничего не сделает.
— О, ты не знаешь Баки, Федо! Теперь еще Кашкар будет как раньше сельский старшина. Айша уедет — братьям, сестрам плохо будет, очень плохо.
— Я на себя это дело беру.
— Хорошо, она брата попросит... Ты тоже попроси, Федо!
— Никаких братьев, мужей и отцов. Хочет учиться — поедет. Она сама себе хозяйка...
— Она не русский женщина, она — горянский. Ей дело другое. Она хочет, она попросит, Федо!
Ахмет, разговаривая, вывел Федотову в другую комнату: кунацкую. Нежилая, она была светла и чисто прибрана. Немного медной утвари аккуратно выстроилось на полках, как коллекция оружия в доме отставного полковника. Вдоль другой стены, прикрытой ковром, стояла широкая кровать, вся покрытая резным орнаментом. Приземлились к полу маленькие резные табуреточки на коротких черепашьих ножках.
— Что вы за люди, Ахмет?
— Я?
— И ты, и все вы.
— Темные люди, Федо!
— Почему они не в этой комнате живут, почему там?
— А если гости приедут?
— Какие гости?
— Какие-нибудь... Где гости спать будут?
— Да ведь гости небось раз в году бывают.
Слышно было, как копошилась за стеной Айша.
Скоро она внесла в кунацкую на деревянном подносе ломти сыра и ячменные лепешки.
— Кушай, пожалуйста, кушай.
— Да я не хочу, я сыта.
— Кушай, Федо! Если ты кушать не будешь, Айша скажет: «Ей мой хлеб плохой». Хозяина нельзя обижать...
* * *
Четверо покинули Гага-аул: Федотова, Айша, Казицкий и Ахмет. Ахмет — пешком.
Как прежде, остался Гага-аул на скале многоэтажным памятником: над ним реяли птицы; крепостью окружали его горы; по-прежнему ходили к водоему женщины и девушки.
— Пришли и ушли большевики — будем жить, как жили.
— Кто как!
— Еще лучше будут жить Кашкар и Баки, мы — еще хуже.
— А большевики не говорили разве, что теперь бедные первыми людьми будут?
— А разве последним стал Кашкар? Баки разве последней стала? «Если вас кто-нибудь обижать будет — идите к Баки жаловаться». Волк только тогда заметил, что ест брата, когда до головы добрался.
— Не понимаю: Баки для нас начальником сделали — это хорошо: она мужчину убила; Айшу с собой в город увезли... Теперь что будет?
— Что будет? Что будет?.. Волосы остригут там, вот что!
— Пойдем, Саба: ничего мы не рассудим здесь.
— Придет день, изменится судьба наша.
— Придет, Паху! Пришел же он для этой женщины, которая приезжала сюда!
— Мир тебе, Саба! До свиданья, до завтра — у источника.
— Мир тебе, Паху!
На площади, в тени крайней сакли, сидели на вросших в землю лоснящихся камнях люди гага-аульские и рассказывали:
— В городе большевики и солдаты-красноармейцы — кызыл-аскеры. Ни одного пристава, ни одного городового нет. Большевики поймали всех — даже офицеров. Какое пришло время: в тюрьму сажают богатых людей, у богатых отнимают дома, фабрики, земли... Говорят, что будут раздавать бедным.
Другие рассказывали:
— В горах меньшевики: имам-наиб26. Он хочет прогнать неверных русских с Кавказа за Волгу и за Ростов. Он хочет, чтобы жили мусульмане, как при Шамиле, — по шариату.
— Кто же из них для правды работает?
— Для правды? — усмехнулся старый Нуцал и рассказал гагааульцам: — Птицы и звери однажды задумались: «Веруем, и жизнь наша устроена, как указано верой. Но правильно ли мы понимаем веру, истина ли она, — не знает никто». Выбрали птицы и звери перепела и лису, чтобы пошли они и спросили об этом бога. Шли-шли, говорит лиса: «Что же мы есть будем?.. Накормил бы ты меня, перепел: идти не могу я, голодная». — «Мы только что выступили, а ты уже ослабела... Идем, идем — накормлю тебя». Увидели женщину: она несла еду работнику. Перепел сказал лисе: «Я буду летать перед этой женщиной, а ты не зевай, когда она бросится ловить меня». Женщина поставила блюдо на землю и погналась за перепелом, — угостилась лиса... Шли-шли, опять говорит лиса: «Угостить-то ты меня угостил, — хорошо, если бы насмешил ты меня». — «Это легко». Полетел перепел и сел на голову погонщику волов, впряженных в плуг. Пахарь бросил камень в перепела. Перепел спорхнул и улетел, а камень расшиб голову погонщика, и он упал. Лиса каталась на спине со смеху. Шли-шли, опять говорит лиса: «Хороший ты товарищ, перепел: и накормил меня, и насмешил... Вот если бы ты еще заставил меня бежать». — «Смотри, лиса, — отозвался перепел, — будешь бежать сейчас: вот идут за нами охотники с гончими». Задрала хвост лиса, повела ушами и бросилась... Гончие за нею. Не осталось ни куста, ни кочки, куда бы не заскакивала лиса. Не отставали от нее гончие, пока она не укрылась в норку. «Тебе, кажется, нечего уже желать», — говорил перепел лисе. «Ах, только бы мне их больше не видеть!» Тем временем нагнали они человека. «Добрый путь тебе!»—»Пусть будет над вами милость!»— «Куда идешь, добрый человек?» — «Из дому, к богу иду». — «Скажи нам зачем?» — «Люди впали в раздумье: может быть, не так верим мы, может быть, сама вера неправильна? Решили мы спросить об этом у самого бога, и меня послали послом». — «И мы тоже послы: лиса — от зверей, я — от птиц. Нам не сделать больше того, что ты, человек, сделаешь, и наш путь будет напрасным. Спроси и от нашего имени об этом, а мы будем ждать здесь твоего возвращения». Сели под деревом перепел и лиса, разговорились, и лиса попросила его: «Чтой-то я туга на ухо стала: сядь поближе, дорогой посол!» Перепел послушался, и лиса схватила его зубами. «Не бери на себя греха, — взмолился перепел, — были мы товарищами, ничего плохого я не сделал тебе...» Не выпускала его лиса. «Хорошо, съешь меня, съешь, но назови хоть имя божье при этом. Это пойдет тебе на пользу по смерти», — взмолился перепел из пасти лисы. Когда лиса сказала: «Боже, слава тебе!» — перепел выпорхнул. Так и не дождались они человека..
Рассказывая, Нуцал стоял, упираясь грудью в костыль, и исподлобья выцветшими глазами смотрел на старых и молодых, слушавших его. Гассан, сын Лечи-Магомы, поникший, сидел в стороне: большевики увезли в город его сестру, и гагааульцы, сами бедные и не любившие бедных, почти перестали разговаривать с двумя ее братьями: Баки говорила всюду, что Айшу продали в город, и она там большевистская кахпа.
Когда Нуцал кончил рассказывать, Гассан встал во весь рост, потянулся так, что под бешметом обозначились его ребра, и сказал, улыбнувшись и сделав три коротких движения рукой:
— Вот небо, вот земля, а вот широкий кинжал. Мне хочется его в руки взять и драться.
— С кем?
— С врагами. Я Кашкара зарубил бы.
— Тише, тише, Гассан!.. Как можно говорить такие слова? Что будет, если ему передадут?
— Война.
* * *
Не война будет, но убьют Гассана.
Кашкару сказали, что хочет Гассан зарубить его. Он посмеялся, а когда ушли Абу-Талиб и Керим, вспомнил, что на дне ущелья живет Ташоу, что Ташоу бедный, что ему хлеб нужен.
— Суанет!— позвал Кашкар свою старую мать. — Как нам Ташоу приходится?
— Какой Ташоу?
— Который мне два пуда хлеба два года должен и прячется с тех пор.
— Его мачеха была теткой твоему отцу.
— Очень хорошо.
Не торопился Кашкар: знал, где спешить надо, где медлить. Он играл на Гага-ауле, как Ытим на скрипке. Два раза спускался на дно ущелья, два раза встречал Ташоу и подавал ему салам. Очень удивлялся Ташоу и скоро сам поднялся наверх, чтобы посидеть и поговорить около мечети с людьми гага-аульскими. Там его увидел Кашкар и послал Суанет, чтобы она как-нибудь зазвала его в дом.
— Почему ты не заходишь к нам?.. Нехорошо забывать родство, — не задерживаясь около мужского сборища, спросила у Ташоу Суанет.
Ташоу встал, чтобы выказать почтение старухе и дому ее, и, оправив кинжал, подошел к ней.
— Какой я вам родственник, Суанет: ваша собака мимо моего дома пробежала?— засмеялся он.
— Не говори такие слова: родство уважать надо. Если бы у горцев родство не ценилось, никого бы из нас в живых не было: перерезали б друг друга.
— Я за родного человека жизнь отдам.
— Правильно, правильно!.. Я сама такая...
Суанет улыбалась, тряся острым подбородком, и легонько тянула Ташоу за рукав.
Он, не сопротивляясь, шел за нею и опомнился лишь в комнате, в которой оставила его Суанет; воспоминание о взятом уже два года назад ячмене бросило Ташоу в жар.
«Ловко старая колдунья заманила меня!» — думал он, опасливо глядя на дверь. Он удивился, когда ее открыл Кашкар и приветливо заговорил:
— А, Ташоу! Давно я не видел тебя: два года!
— Два года я должник твой.
— Не думай, что я забыл об этом. Не думай еще, что я убью тебя за это, как Лечи-Магома — своего брата. Мой дом твой дом, твой дом — мой дом.
Ташоу таял в мирном тепле ласки, которую излучал Кашкар. Хозяин угостил Ташоу курятиной, чаем с сахаром, тусклые, объеденные мышами куски которого он щедро опускал в стакан Ташоу.
— Слышал новость (до чего люди доходят): Гассан меня убить хочет? — засмеялся Кашкар.
— Я его прежде убью! — вскочил Ташоу и зашагал около стола.
— Не надо убивать, Ташоу!.. — успокаивал его Кашкар. — Садись!.. Аллах воздаст ему за грехи... Тебе, может, кукуруза нужна или ячмень?
— Ничего не надо. Я — горец, я за родство должен стоять.
— Аллах воздаст ему за грехи... Ты возьми — я дам кукурузу или ячмень.
* * *
Откуда же было знать людям гага-аульским, что бедняцкое время настало?
Они приглядывались к тому, что делает Кашкар. Он отнял у мечети вакуфы, и никто не знал, хорошо это или плохо: лучше не стало, хуже тоже. Кашкар объяснил, что только будущей весной увидят люди, как распорядится с вакуфами новая власть. Он сказал еще, чтобы теперь к нему несли плату за аренду, и, чтобы люди не говорили, что он злой, позволил Джабраил-кадию и Гамзат-мулле снять этим летом с вакуфной земли то, что они для себя посеяли.
Кто знает, что хорошо, что плохо в этом мире?..
Давно уже говорил сам Гамзат-мулла, что даже аллах, чтобы управлять миром, ищет себе на земле помощников — шейхов.
— Семьдесят оболочек имеет шейх, и то, что ты видишь, лицезрея шейха, — одна из них. Тебе кажется, что шейх только с тобой, на самом же деле он присутствует еще в семидесяти местах... Каждый год, в ночь алькадра27, шейхи собираются у аллаха и решают судьбу вселенной.
Имеющий семьдесят оболочек шейх не знает, что плохо, что хорошо... Аллах не знает, что плохо, что хорошо. А, один-единственный образ имеющий, я, бедный, я, богу покорный, — что я знаю?
Тихо и мирно живите. Завтрашний день скажет вам правду завтрашнего дня, послезавтрашний — послезавтрашнего.
Вот Баки... Она была Баки — она не Баки теперь: делегатка. Де-ле-гат-ка! Это значит, что она может женские дела судить.
Обидел, например, муж Сабу или Паху обидел муж, и пошли Саба или Паха к Баки — жаловаться.
Баки выслушала и позвала мужа:
— Ой, Бакар, ты зачем обижаешь свою жену, ты зачем на ней воду носишь? Не человек разве она? Ты посмотри, какая она старая, какая она слабая...
— Я не виноват, Баки, что старая она. Какая работа, если она воду или кизяк носит?.. Разве я должен этим делом заниматься?
— Верно, что не должен: ты мужчина... Но кто-то должен.
— Она всю жизнь носила воду, ее мать и ее матери мать — тоже. Почему ей стало теперь тяжело?.. Потому что теперь все даром пить-есть хотят, потому что теперь женщины такие пошли, что только ночью хотят немножко хлопот.
— Ой, ха-ха! Ты веселый человек, Бакар! Хорошо, я тебе ничего не сделаю: приходи к нам завтра дрова колоть.
Или вот обидел Ханику муж. Ханика к Баки пришла — жалуется.
Баки выслушала и говорит ей:
— Ты не ко мне ходила, ты к Лечи-Магоме ходила на похороны, теперь к нему иди жалуйся.
Куда еще Ханика пойдет: зима, не летят птицы в Гага-аул, из Гага-аула. Последней птицей Кашкар был.
* * *
Свинцовые тучи тяжело лежали на склонах ущелья, когда он ехал из города в Гага-аул. Выл ветер, и качались длинные будыли, отчаянно вцепившиеся в скалы. Стальным, мелкокованым панцирем складывались на бурке Кашкара и на гриве лошади серые брызги, вырванные ветром у низких туч.
Мокрые космы папахи липли и щекотали лицо Кашкара, и зябкая дрожь приятно задерживалась и таяла на груди, тепло и сухо укутанной в шубу.
В Гага-ауле стлался по плоским кровлям дым. С мельницы шли женщины, сгибаясь под тяжестью мешков с мукой. Заслышав позади топот, они останавливались, прижимаясь к стенам саклей, чтобы уступить путнику дорогу. На площади, как всегда, сидели мрачные по-осеннему старики.
С коня крикнул Кашкар Джемал-Эддину, чтобы тот пришел к нему завтра утром.
— Дело есть.
— Сейчас не зовет: боится, что угощенье не готово, — засмеялся вслед сутулому всаднику Гассан.
— Он угостит!.. У него меж пальцев вода не каплет.
На следующее утро пришел к Кашкару Джемал Эддин.
— А, алейкум салам, Джемал-Эддин! Ты сколько саб28 ячменя собрал и фруктов? Сколько саней сена? Сколько овец и коров у тебя? — встретил Кашкар старика.
— Много: тридцать саб ячменя и двадцать — фруктов; тридцать овец у меня осталось и десять саней сена.
— Очень хорошо, Джемал-Эддин: половину всего этого ты сегодня же ко мне свезешь.
— За что?
— Продразверстка. Я здесь власть, я такой приказ получил в городе.
— Кто бы ты ни был, Кашкар, я все равно не дам тебе, что требуешь. Разве моя земля стала вакуфом для большевиков?
— Нет, дашь!
— Валлаги, биллаги, не дам! Если хочешь по-хорошему — возьми одну десятую. Раньше я платил закят мулле, теперь тебе буду давать.
— Нет, ты заплатишь все, что я требую, Джемал-Эддин, или я арестую тебя!
— Ты дай мне сначала посмотреть, как ты мою курицу арестуешь. Какой же это закон?
— Большевистский.
— Нет, это коммунистический закон. Если хочешь по-хорошему — возьми одну десятую.
— Все, что я требую, ты заплатишь, Джемал-Эддин!
— Приходи — возьми.
— Приду — возьму!
Джемал-Эддин ушел, а Кашкар сел за стол чай пить. Он видел свое отражение Ь блестящей меди самовара. Даже сейчас, когда хозяин был в раздумье и возмущен, оно пучило жадные рачьи глаза и длинные — от уха до уха — толстые губы.
В городе Казицкий сказал ему, чтобы он объявил в Гага-ауле, что Советская власть освободила горцев от продразверстки: «Пусть они свое хозяйство укрепят». Но по пути домой Кашкар слышал от встречных, что имам собирает силы в Тлопс-ауле и в эту зиму непременно прогонит русских с Кавказа. И Кашкар рассчитал, что лучше взыскать продразверстку: если большевики останутся, — он им весной от Гага-аула сделает подарок и себе немного оставит, если имам прогонит большевиков — он ему такой же подарок сделает: теперь хлеб всем нужен.
Муллу и кадия он пока не очень обидел и помирится с ними.
Все так просто и хорошо рисовалось Кашкару, а в Гага-ауле даже Джемал-Эддин не захотел платить продразверстку.
— Ты слышала, жена, что этот старый дурак ответил мне? Что значит, когда погон на плечах нет: никто не боится.
— Все нашим будет, муж! Только что началась зима. К весне кончится у народа хлеб — к тебе придет.
— А что он мне даст, когда у него ничего не будет? Теперь никто не пойдет в копратив. Как жить будем — бог знает.
— Никто не знает. Может быть, когда пройдет зима, за горами царь будет или калиф, Деника или Нажмуддин. Каждому будет день, и каждому будет ночь, муж!
— Я привык, чтобы для меня всегда день был.
Улегся снег на горы и на Гага-аул, и, когда выглядывало зимнее солнце, сквозь плоские кровли протекала в сакли вода.
— Жена, тебе надо на кровлю лезть.
— Сейчас, муж! Дай тесто замесить.
— Тесто не бегает, жена, а вода бежит. Полезай на кровлю!
Горская жена на кровлю лезет, жена месит рассыпчатую ячменную муку, из клейкого помета кизяк готовит. Она утром и вечером за водою ходит, едкий кизяк в очаге раздувает, шубу чинит, черкеску штопает, ребенка кормит и укачивает детей жена:
Агусита, кана, агусита, сынок...
Ай-лю-лю-лята, кана, ай-лю-лю-лю-лята.
Жены вышли с лопатами, с молотками на кровли, мужья с разговорами — на улицы.
С тех пор как Джемал-Эддин принес от Кашкара весть о продразверстке, народ гага-аульский целыми днями зяб на перекрестках: каждое утро председатель ревкома звал к себе еще кого-нибудь и требовал разверстку. Он грозился, говорил, что он Чека для Гага-аула (в городе Чека людей расстреливает).
В одну из пятниц люди собрались в мечеть, и мулла сказал им:
— Бисмилляги ррахмани ррахим. Правоверные, настали последние дни: вы видите, что аллах отнимает у людей разум... Кто выпил воду безумия?.. Или мы все напились этой воды, и приехавший человек, один он, остался умным. Или он один испил воды безумия, и бог отнял у него милосердие и согнал его с пути праведного. Не мы ли говорили — я, Гамзат-мулла, и Джабраил-кадий — что бедные на половину дня раньше богатых предстанут перед лицом бога? А что задумал этот человек?.. Он уходит от бога, ставит себя превыше его. Он отнял у бога вакуфы, теперь он отнимает у вас, нищих, ваше добро, которое вы могли бы принести в дар богу и приблизить себя к лицу его... Теперь что вы будете делать, несчастные? Что вы собрали от трудов своих, — этот человек берет себе. Он берет и то, что вы собрать могли бы. О аллах!.. О посланник твой!.. О Джабраил, Измаил и другие ангелы!.. О актабы! О халифы! О шейхи шейхов!.. О шейхи!..29 Спешите к нам в эти времена смут... О аллах, ты поддержишь нас, чтобы мы были тверды и сильны в защите твоего и своего имущества. Наше имущество — твое; твое имущество — наше. Омен!
— Мулла, — спросил Салман из рядов, — за имущество божье можно объявить газават?
— Можно объявить, можно объявить: на все воля аллаха, — ответил мулла.
— Мулла, — спросил Нур-Магома из рядов, — если мы пойдем и убьем его, что будет?
— Кого убьете?
— Кашкара.
— Кашкара нельзя убивать.
— Мулла, — спросил Шафи из рядов, — а если мы этого человека убьем?
— Этого человека убить можно, — ответил Гамзат-мулла, — но пророк сказал, что надо предупреждать. Пророк, прежде чем обнажать меч ислама против неверных, предупреждал их. Шариат а’Шафия приказывает то же.
— Кто же пойдет и предупредит его?
— Мулла пойдет. Гамзат-мулла и Джабраил-кадий!.. — крикнули люди.
— Мы пойдем с тобой, Джабраил-кадий... Омен!.. Теперь посвятим себя пятничной молитве богу.
* * *
Мулла и кадий долго собирались к Кашкару. В условленное время они встречались около мечети и советовались, как разговаривать с врагом. В Коране сказано: «Не возвышайте голоса», — и несколько дней Гамзат-мулла убеждал кадия, что пророк сказал это только для упоминания имени божьего.
— Перед всеми делами мы упоминаем имя божье, — отвечал Джабраил-кадий и отступал от муллы, точно боялся свалиться и раздавить его.
Сговорившись наконец не начинать с ссоры, они медленно и степенно («умерь свой шаг», — сказано в Коране) вошли к Кашкару.
— Мы по делу пришли, Кашкар... — сказал Гамзат-мулла. — Джабраил-кадий знает шариатский закон, который от пророка и тем самым от бога. И Джабраил-кадий не делал ничего, что не было бы в согласии с книгами.
— Ты хочешь сказать, Гамзат-мулла, что я действую неправильно, что я от себя и для себя придумываю законы. Так или нет? — лукаво прервал муллу Кашкар.
— Так и не так. Мы не хотим ссориться с тобой, — вставил Джабраил-кадий.
— И я не хочу ссориться с вами, Гамзат-мулла и Джабраил-кадий’
— Зачем же ты отнял у нас вакуфы? — почти крикнул мулла.
— Я ничего не мог сделать: таков советский закон.
— Если закон — мы молчим, мы ничего не говорим, — сказал кадий.
— Нигде?
Кадий хотел сказать, что нигде, но вспомнил последнюю проповедь муллы.
— Нам тоже надо что-нибудь: у нас тоже семьи есть, и, кроме того, мы должны заботиться о муталимах, — оправдываясь, промолвил он.
— Закят вы получали пока.
— Но ты и закят хочешь отнять у нас; что останется у гагааульцев для закята, когда ты отнимешь у них половину урожая?
— Советский закон таков. Берите половину той части, которая остается у них.
— Как можно, Кашкар?! — вместе крикнули Гамзат-мулла и Джабраил-кадий. — Разве народ овца? Разве он станет терпеть?.. Кашкар, народ нам поручил, и мы пришли просить, чтобы сбавил ты, чтобы ты вернул нам вакуфы, чтобы гагааульцы жили мирно.
— Это можно, чтобы жил мирно народ: пусть живет как овца. Теперь он хуже: овца довольна тем, что ей бог посла л, а народ бога перепрыгнуть хочет, ему надо все больше и больше, больше и больше. А вы на него похожи: зачем вам вакуфы?
— Ты говоришь, что мы против бога?
— Подожди, Гамзат-мулла! — поднялся со стула Джабраил-кадий. — Давай, Кашкар, мы все прямо скажем друг другу: первое — нам ссориться не следует; второе — мы помириться можем; третье — помиримся и хорошо заживем. Советский закон — советский закон; мы не будем стараться прыгнуть через него. Наше дело такое: если мы согласимся получать половину закята, народ перестанет нас уважать и слушаться. Здесь не уступим: по-старому нам идти должен закят. Дальше: старый закят целиком и половину урожая не сможет платить народ; поэтому ты должен брать меньше. Дальше: ты будешь брать меньше, но из этой доли ты должен платить нам за вакуфы: муталимам хоть немного есть надо, иначе у них по всему телу пойдут чирии... Тогда мы будем мирно жить, будем тихо, хорошо жить.
— Я согласен хорошо жить... Ой, жена... поставь самовар: к нам большие гости пришли, будет у меня с ними большой разговор. Садись, Джабраил-кадий: закипит скоро самовар, будем чай пить горячий и разговаривать. Как ты думаешь, Гамзат-мулла, если я себе френч и галифекс сошью — хорошо будет?
— Какой френч, какой галифекс?
— Какие большевик носил, который приезжал к нам, в Гага-аул.
— Очень хорошо...
* * *
В пятницу опять были люди в мечети на молитве. Говорил мулла:
— Бисмилляги ррахмани ррахим. Правоверные, или не видите вы, какие настали дни? Или не видите вы, что Джабраил-малик в седьмой раз спустился на землю и отнял у ученых знание?..
Кто выпил воду безумия?.. Вы выпили. Или мы не видим, что Джабраил-малик в десятый раз сходит на землю, чтобы отнять Коран и чтобы взошло солнце с запада? Разве не сказано в Коране: «Истина — одни из нас добрые, другие не таковы: мы идем по разным дорогам»? Разве не сказано в Коране: «Бог дает свое царство, кому хочет»? Разве не сказано: «Если бы богу не сдерживать одних людей другими, то земля расстроилась бы. Спасение, спасение, правоверные!»? Берите то, что предоставит вам посланник, что запретит он вам — считайте для себя запрещенным.
О правоверные! На дне терпения золото. Перед вами воля бога и посланника его: «Нам не ослабить бога на земле, не ослабить бегством от него». И куда побежим мы?
Смирение, смирение, правоверные!.. О аллах, ты укрепишь нас в смирении нашем, ты накажешь неповинующихся. Визгом ослов будут вопли их. «Когда они будут умолять о помощи, их напоят водой, подобной растопленному металлу, и она будет жечь их». Омен!
— Мулла! — спросил Салман из рядов. — Как же нам быть с имуществом нашим?
— Я сказал, — ответил мулла.
— Ты ничего не сказал, — поднял голову Гассан, — ты ничего не сказал нам из того, что должен сказать.
— Мы ждали, пока вы спросите, чтобы отличить неповинующихся от покорных, чтобы узнать посягающих на волю божью. Да, мы говорили с ним, и он ответил: «Я люблю наш горский народ. Я буду хлопотать, чтобы продразверстку уменьшили до одной трети. На все воля божья».
— Мулла, — спросил Нур-Магома из рядов, — значит, мы не можем убивать на пути нашем?
— Я сказал, — ответил мулла.
— Ох-ох-ох! — прошло по рядам, как волна. — Что же нам делать, мулла?
— Бог всех животных сотворил из воды; из них некоторые ползают на чреве своем; другие ходят на двух ногах, а некоторые на четырех. Бог творит, как хочет. Смирение, правоверные! Из хитрецсв самый искусный — бог: он знает, что присваивает себе каждый. Я кончил. Омен! Теперь посвятим себя пятничной молитве перед богом.
* * *
Люди вышли из мечети и долго еще чернели на площади разбросанными виноградными гроздьями.
Снег лежал на горах, на кровлях саклей, и на дне ущелья была тонка, как червь, зимняя река. Точно бычачий пузырь, затянули тучи долину с Гага-аулом на утесе и срезали лоснящиеся горные хребты. Так затягивают для чанура бычачьим пузырем деревянную чашу.
За горами никто не слышал, какие жалобы пел чанур. Кто думал там, хватит или нет ячменя Гага-аулу до дней, когда жаром нальется солнце, зашумят ручьи и в прямоугольниках пашен заколосятся хлеба?
— Вы будете разверстку платить? — спрашивал у людей Гассан.
Люди вздыхали и неохотно отвечали Гассану: ведь сегодня бог тоже перешел на сторону Кашкара и Баки, и можно ли против бога идти?
— Побойся его, Гассан: ты и нас подговариваешь.
Смотрел на людей Нуцал и говорил:
— При Шамиле мы платили только закят.
— Мы несчастный, мы бедный народ. Мы не видим дальше своего носа: почему мы сами не сделались большевиками, когда здесь были русские? — спрашивал Абубакар.
— Что же понесете вы Кашкару? — не унимался Гассан.
— Попросим, чтобы подождал.
— Просите! Может быть, от ваших просьб лопнут Кашкар и Баки.
— Побойся бога, Гассан: ты и нас подговариваешь.
— Я не подговариваю — я не буду платить. Они сильнее меня одного все равно. Помните: были бы слабее они, если бы все не платили.
— При Шамиле весь Гага-аул был как один человек, — глухо произнес Нуцал, и никто не услышал его.
Дома теплился в очаге кизяк, и дым, как жирная каша, оседал во рту. В то время, когда вернулся Гассан, Ханисат запускала руку в золу, чтобы достать из нее ячменную лепешку.
— Ты теперь у нас старшая, Ханисат, хозяйка. Над чем ты трудишься? — ласково спросил Гассан.
— Над хлебом.
— Будь он проклят — хлеб этот горький.
Ханисат обернулась к брату и спросила, не расслышав проклятья:
— От Айши письма нет, Гассан?
Кто же теперь принесет письмо, Ханисат? Теперь птичка не прилетит, не улетит из Гага-аула. Весны подождем и вместе поедем в город.
— Верхом?
— Верхом; Кашкар обещался сегодня в мечети подарить мне лошадь.
— Правда?
— Да. Ему самому нечем кормить коней — раздает он.
* * *
Ночь шла — день за собою тянула; день шел — ночь за собой тянул. Вздыхали люди в Гага-ауле, им вторили голодные овцы, коровы мычали: все просили весны, но не скоро весна.
Может, от мороза сакли осыпятся, может, обвалы задавят Гага-аул, может, в Гага-ауле люди съедят весь хлеб, все фрукты, баранов, козлов; может, друг на друга пойдут люди в Гага-ауле, съедят друг друга — кто узнает об этом на белом свете раньше весны?
Смирно сидите, гагааульцы. Пусть слезятся ваши глаза, пусть в кашле разрываются груди, пусть вши и блохи грызут тела ваши. Придет весна — кто доживет, никто не знает. Смирно сидите!
От Кашкара ходил по аулу Дагир.
— Рывкома прыдсыдател требует разверстку... Дает еще три дня сроку... Кто не заплатит — штраф с того... Торопитесь, гагааульцы!
Все обещали платить, но все весну ждали.
Дагир постучался к Абубакару:
— Ой, Абубакар, Кашкар прислал к тебе особо: ты должен ему.
— Разве я один должен? Пусть заплатят другие.
— Кашкар сказал, чтобы я не слушал таких ответов: все так говорят, и никто первый не платит.
— Спроси, Дагир, чем я заплачу ему? Если я разверстку отдам — не смогу долг отдать; перед Кашкаром нехорошо и стыдно. Если я долг отдам — не смогу разверстку отдать; перед большевиками нехорошо и стыдно. Что делать?
— Пойди к Джабраил-кадию, Абубакар: он скажет.
— Джабраил-кадий тоже не разорвется на две части.
— Он мудрый человек — Джабраил-кадий: он и на три части разорвется, и сам целым останется.
— Он останется, я не останусь. Не зайдешь ли ко мне посидеть, Дагир? — пригласил Абубакар, чтобы кончить разговор.
— Нет, мне еще много идти, — кричать надо.
— Счастливого пути!
— Прощай!.. Ты не знаешь, что сделал Гассан? Я слышал о нем плохой разговор. Рывкома прыдсыдател требует разверстку! — удаляясь от Абубакара, вдруг закричал Дагир.
Никто не платил и не отказывался платить.
* * *
Ночью разбудил гагааульцев гром. Какое время для грома зима?.. Как для старости — любовь, или для пустыни — зелень, или для скорби — молодость?
Гага-аульский народ накинул овчинные шубы и вышел на кровли.
— Ой, сосед, что за чудеса на свете!
С неба тускло светили звезды, и люди спорили, что не гром гремит, но пушки: вспыхивая, красный блеск их резко отчеркивал изломы горного кряжа.
« Откуда могут быть за горою пушки, Гассан?
— С крепости взяли: когда прогнали из нее солдат, пушки там остались.
Мулла и кадий стояли на площади, и Кашкар подошел к ним. Он один догадывался, какой гром гремел за горами.
— Кончилась наша тишина, — засмеялся он. — Это дорогу проводят в Гага-аул.
— Да избавит нас аллах от нового испытания! Кто здесь остался бы, если б дорогу провели: все бросили бы пахать землю и ушли в город, — сказал Гамзат-мулла.
— И ты первый уехал бы, Кашкар! — сутулясь, точно стесняясь, прибавил Джабраил-кадий. — И верно говорит Гамзат-мулла: тогда бы нечего было делать здесь гага-аульцам: кто давал бы им быков для пахоты, лошадей для поездок в город, кто кормил бы их, когда весной кончаются запасы, кто покупал бы у них шерсть и фрукты?
— Да, уехал бы: ведь мне никто ни разу не сказал спасибо. Разве это люди?
С площади им видны были плоские квадратные кровли, в неясном свете спускавшиеся вниз, к садам и реке. На кровлях ежились и зябли люди и смотрели вверх, точно боясь пропустить откровение, которое должно засверкать в огне. Они не могли придумать, что делается за горой, и пугались эха, урчавшего в утробах замерзших гор.
— Пойдем по домам, Гассан: утро скажет нам все.
«Красиво встает утро для аульских молодцов, для меня встает — волком воет, красиво спускается ночь для сынов аула, для меня спускается — медведем ревет... Если бы всех моих мачех под эти пушки поставить, если бы не бояться мне за своих сестер, я отрезал бы этой женщине груди, а мужу ее...»
— О чем ты думаешь, Гассан? Смирно, смирно сиди: благодари бога, что хоть так живешь, как живется. Ты не чувствуешь еще, какая над тобой беда нависла. Ты думаешь, что Ташоу даром ходит к Кашкару? — зашептал Абубакар.
Долго сидел Гассан у себя дома на войлоках и много раз выходил на соседскую кровлю: то смолкали, то вновь гремели за горой пушки. Он думал над тем, что сказал ему сегодня Абубакар и что должна быть за горами какая-то другая жизнь.
Пушки не умолкали, и горы отвечали каждому реву их. Народ гага-аульский слушал, как никогда не слушал Ытима; ждал новых выстрелов, как весну не ждал никогда.
Гамзат-мулла говорил, что это плохо: отбился от рук народ — мужчины целыми днями стоят на кровлях и беседуют, в саклях кое-как теплятся очаги, кое-как выпекаются ячменные лепешки. Не только за собой, — за коровами-овцами не убирают люди.
Молитва перестала молитвой быть. Люди не вовремя делают намаз и отвлекаются от него. А правоверные не должны этого делать, если бы даже не за горой, а в них самих стреляли во время молитвы.
И в мечети на джума-намазе30 люди стали себя плохо вести: не читают мысленно молитвы вслед за имамом31, но перешептываются друг с другом.
— Ничего там нет — за горами. Как жили, так живите. Никто не трогает вас, — ходил Гамзат-мулла по аулу.
Кашкар немного бледнее стал, и ему не спалось по ночам.
— Жена, я думаю, что опять подрались большевики и меньшевики. Как ты думаешь: кто победит?
— Нам все равно: нам с большевиками хорошо, с меньшевиками неплохо будет.
— Конечно, я такой человек, что могу большевиком и меньшевиком быть, а все-таки, а все-таки что-то там делается плохое для меня. Я думаю: имам-наиб с большевиками ссорится. Если он победит — плохо: он возьмет себе на службу Гамзат-муллу и Джабраил-кадия, а что со мной сделают, когда сильными будут, — сама знаешь.
— Сегодня слух прошел (Саба говорила): Гассан хочет пройти через горы на божий свет, узнать, что делается и почему пушки стреляют.
Ха! Пушки стреляют потому, что заряжают их. Что еще он узнает?
— Ничего. Пусть пойдет. Он или погибнет, или вернется. И то и другое нам на пользу. Ты не распускай народ... Завтра опять пошли Дагира в аул, чтобы отдали всё, всё, что следует. Если нет — направишь пушки сюда.
— Хоть не поверит никто, а надо так сделать; ты правильно говоришь. Л Гассан пусть идет — мне не придется дарить Ташоу зерно. Не узнал ли он от кого-нибудь, зачем Ташоу ко мне ходит?
— От кого узнает?..
* * *
Утром опять Дагир ходил по аулу.
— Рывкома прыдсыдател Кашкар требует, в последний раз требует, чтобы несли разверстку. Если не заплатите разверстку, завтра он скажет, чтобы пушки стреляли в ту сторону.
— Если даже голос Кашкара будет как рев тысячи буйволов, пушки не услышат его... — смеялись гагааульцы.
Они рассказывали сон, который видела прошедшей ночью Фатимат — Абубакара жена. Ей приснилось, что за горами много людей. Половина их была на одном берегу реки, половина — на другом...
— Ну?..
— Ну и больше ничего не видела она.
— Мы тоже будем на Страшном суде: одни — по правую руку аллаха, другие — по левую... Можно было не видеть такой сон...
Фатимат не утешила гагааульцев, и в следующую ночь Гамзат-мулла увидел свой сон.
— В ночь на пятницу явились ко мне два ангела и вознесли превыше всех гор и облаков и повергли меня перед престолом аллаха. И видел я там золотого петуха, который сидел на плече властителя миров и хвост которого спускался до самой земли и даже-через семь земель. Я спросил: «Что это за петух?» — и голос ответил мне: «Слушай!» Я стал слушать и услышал, как прокричал петух два раза, хотя не наступал день и золотые чертоги аллаха сияли, как двадцать тысяч и четыре тысячи солнц. И когда прокричал петух, два раза прокричал, сказал голос: «Плохие вести с земли, и пошлем мы на землю Джабраил-малика». Я ужаснулся, и стало мне жаль бедных людей. Я воззвал к аллаху: «О милостивый и милосердный, за что ты караешь землю?» Аллах ответил мне: «Она не слушает предупреждений моих и погрязла в грехах». Еще два раза прокричал пегух и потряс хвостом. Заколебались чертоги аллаха, в которых цветут золотые деревья и горят рубиновые плоды. «Унесите муллу и покажите ему грехи мира», — сказал аллах. Два ангела подняли меня и стремительно спустили вниз и носили над Гага-аулом. Я видел людей. Они были мелки, как мухи, и облепили кость, на которой оставались клочки мяса. Я спросил ангелов: «Что это?» Ангел ответил: «Кость — земля, мясо — хлебные поля гагааульцев; они хотят, чтобы земля давала больше, но не дает: что может вырасти на земле для человека без воли аллаха? Гневен аллах-мститель». — «За что он мстит людям?»— спросил я. «Они не выполняют законов его и законов царей, поставленных над ними. Сказано в книге: «Бог избрал его властвовать над вами». И ангелы спустили меня на землю, в дом мой, и разбудили меня прикосновением крыльев своих. Я проснулся, и вот я снова с вами, правоверные братья мои!
— О, осто пиролла! О, осто пиролла!
— Ты, мулла, не сказал, кто и почему стреляет там?
— Бог скрыл от меня лица: он дал только предупреждение.
— О, осто пиролла.
Гремели за горами пушки. Точно ворочались, урчали замерзшие глухие горы. Кто сказал бы гагааульцам, почему стреляют пушки, почему грохотом нарушают сны голодных людей? Гагааульцы знали, что за зимой весна идет, за весной — лето. Весну, лето и осень работать надо — зимою спать. Теперь неспокоен стал сон их. Вместо яств снятся км пожары и кровь, разрушенные сакли, землетрясения, в которых задыхаются они, придавленные скалами. Не подымаются их груди во сне, не двигаются руки и ноги. Когда просыпаются с протяжным стоном — грохочут за горой пушки.
— Я пойду, я узнаю, почему стреляют они, — сказал Гассан.
Как выйти Гассану из Гага-аула?
Если пойдет Гассан низом, по реке, которая мелка зимой, то не удержаться ему там, где входит она в теснину, прыгает по обледенелым скалам.
Если пойдет Гассан через горы — на горах снег. Кто знает, каким он будет завтра — мягким и мокрым, сыпучим или твердым?
— Не ходи, Гассан, — просила Ханисат. — Айша в городе. Ты уйдешь, и разве сможет Осман один защитить нас?
— Я вернусь, — утешал Гассан сестру, но спохватывался, вспоминая, что, быть может, никогда не вернется в Гага-аул, и говорил заботливо: — Или останусь до самой весны в городе, если удастся перекалить за горы... Ты мне все в дорогу приготовила?
— Все: сыр и две лепешки ячменных.
— Вот и хватит мне, вот и хватит... Спасибо, сестренка!
Гагааульцам жалко было Гассана: погибнет он. Все так думали и собирались к нему в кунацкую.
— Завтра идешь, Гассан?
— Да, завтра.
— Рано утром выйти надо, пока темно. Короткие дни теперь, а тебе за гага-аульскую гору завтра же надо спуститься. Берегись, Гассан, осторожно ходи: холодный снег и скользкий, — советовал Абубакар. Он один знал, почему Гассан решился бежать из Гага-аула.
— Спасибо... Слава аллаху, детей нет у меня, невесты нет: калым не собрал.
Потрескивал в очаге кизяк и расцветал хрупкими золотыми лепестками. Пламя поблескивало на одежде гостей, и Гассан узнавал их по жестам. Поправляя папаху, быстро и часто взмахивал рукой Абубакар, тускло сверкала лоснящаяся копотью и салом шуба Нур-Магомы; положил на колени жесткие, неподвижные пальцы Халид.
Когда пламя вспыхивало ярче, около двери всплывал, облекаясь плотью, образ Османа. Гассан слушал гостей, а сам посматривал на брата и думал: как справится он с хозяйством, не загрызут ли его. одинокого, Кашкар и Баки, и что тогда будет с сестрами?
— Пока не вернешься и не покажешь нам городской приказ, ничего не дадим Кашкару, — клятвенно обещался Нур-Магома.
Уже собрались уходить гости, когда Гамзат-мулла открыл дверь с улицы и остановился. Точно принесло его холодным белым ветром.
— Здравствуй, Гассан!
— Здравствуй!
— Кто же так старшим отвечает?.. — спросил мулла, хитро поглядывая на гостей. — Почему ты не поднимаешься навстречу мне, Гассан? Если другом не хочешь быть, будь хозяином для своего гостя.
— Хорошо... Заходи, Гамзат-мулла! — поверил и поднялся Гассан.
— Разве войдет благочестивый в дом неверного? — отмахнулся неожиданно мулла. — Желаю тебе быть врагом божьим, Гассан! Пусть великий бог делает тебе подлости на пути, Гассан!
— Спасибо, мулла! Если все, что тебе нужно, сказал, закрой дверь и уходи. Знай: об этом я, как хозяин гостя, прошу тебя. Не заставляй меня быть встречным: равны встретившиеся на дороге.
— Одиноким всюду одна цена, — отступил мулла и хлопнул дверью.
— Мы тоже уйдем, Гассан: тебе завтра рано вставать. Доброй ночи!
* * *
Пушки гремели, когда вышел Гассан из Гага-аула. Проваливаясь в снег, он поднимался по склону горы и часто оглядывался: в последний раз, может быть, видел аул, серые стены которого казались бараньими шкурами, выставленными на просушку.
Куда ты пошел, Гассан? Ведь снег сковал кровли аула, долину, горы и скалы. Он хрупкий — снег, как песок.
Мчался ветер, хватал пригоршнями снег и забрасывал алмазной пылью лицо и шубу Гассана. Гассан даже сосчитать бы не сумел столько снежных пылинок.
Он бедный, он один. Ветер и снег, солнце и горы — все они жестокие сейчас; они всегда для Гассана жестокими были: он всегда с ними боролся, побеждал всегда. Теперь они вместе ополчились против него, а Гассан хотел победить их.
Снег и камень, камень и снег.
Снег коварно лежал на камнях: скрывал глубину трещин и выступы скал. И Гассан напрасно цеплялся за снег и за камни: неверен снег, и холодны камни; в их частых морщинах черный лес.
Напрасно рвал Гассан ногти, напрасно капала на снег кровь, напрасно хотел Гассан склеить раны холодным снегом.
Горело бурное сердце Гассана, и все-таки кровь его не разрешила горы: не таяли они, не рассыпались. Камень есть камень, а кровь — вода: нужны многие реки» ее, чтобы рассыпались каменные горы.
«И каждому будет день, и каждому будет ночь». Вот день, который страшней ночи для Гассана.
На вершинах еще жестче ветер. Многими иглами он исколол глаза и слепил Гассана, который шел вперед, вверх; за горами грохотали пушки. Даже вой, даже визг ветра не заглушал грохота; вторило грохоту сердце Гассана.
Ханисат и люди смотрели со своих кровель вслед Гассану.
Они видели, как поднимался он на гору, как падал, как скатывался вниз, как цеплялся руками за снег и камни — медленно, медленно вверх шел.
— Разве мужчина он: на четырех ногах ползет! — кривился Гамзат-мулла.
— Не дойдет! — сказал Абубакар.
— Дойдет! — ответил ему Нур-Магома. — Он горячий человек — должны расступиться снег и горы на пути его.
— Пусть идет... Я ничего не говорю.
Люди смотрели, слушали дальнюю пальбу, Ханисат смотрела, слушала пальбу.
— Большие горы и снег большой, а Гассан какой маленький! — сказала она.
После полудня Гассан присел передохнуть на гребне горы. Под ногами его лежала глубокая пропасть; за спиной далеко внизу приник к земле серый Гага-аул. Гассан вынул из сумки хлеб и сыр. Затвердели, окаменели от мороза они, и он край чурека о землю отбил. А когда сжал его зубами, то откусить не смог: твердый.
— Осталась бы ты без отца, земля наша! — крикнул Гассан и куском хлеба ударил землю. Кусок отскочил и скользнул вниз.
Словно чтобы найти его, начал спускаться Гассан.
* * *
Гага-аул Гассана ждал. Гассан не приходил долго, и Гага-аул начал весны ждать: придет весна — Гассан вернется.
За горами отгремели пушки, и Кашкар каждую пятницу посылал Дагира в аул.
— Пойди еще раз, скажи: будут они разверстку давать или нет? Весна скоро: приведу в Гага-аул тысячу солдат, тысяча солдат сделают тысячу русских мальчиков в Гага-ауле, а всех мужчин, которые не хотят платить, я в Чека отправлю.
— Мудрый Кашкар, — отвечал Дагир, — люди говорят: «Придет весна — вернется Гассан и скажет, надо или не надо платить разверстку».
— Скажи им, что не вернется Гассан.
— Ханисат тоже говорит, что не вернется Гассан. У них соленым сделался горький ячмень: так много она плачет, когда месит его.
— Пусть плачет, пусть ослепнет от слез: все зло в Гага-ауле пошло из этого дохма. Придет весна — я выдам Ханисат замуж за двадцать солдат.
Что Дагир сделает? Дагир шел в аул, кричал аулу:
— Рывкома прыдсыдател разверстку требует. Скоро весна, и растает лед на дороге. Кто не заплатит разверстку, — в Чека сидеть будет.
— Чека что такое?
— Так называют русские каменный подвал.
— Скажи ему: все заплатим, когда Гассан вернется.
— Кашкар сказал: «Не вернется Гассан».
— Мы тоже думаем, что не вернется, но подождать надо. Немного дней осталось до весны.
Немного дней осталось до весны: воздух над Гага-аулом становился мглистым, снег на горах, как мертвый, синими пятнами блестел, белые облака из-за гор спешили. Скоро прокричат птицы весну.
Немного дней до весны осталось. Хозяйки гага-аульские по утрам на ладонях взвешивают муку: хватит ли, чтобы накормить мужей, надо ли еще немного прибавить?
Свирепый месяц март. Врывался ветер и леденил воду: в лучах мартовского солнца таял снег. Люди доедали хлеб. В темных стойлах молили о свежей весенней траве отощавшие быки и коровы, а ветер не унимался.
Настал последний — тридцать первый день марта, и люди радовались. Когда-то было тридцать, но злой ветер полетел к апрелю — выпросил у него еще один день для марта. Согласился добрый и ласковый весенний месяц, и с тех пор надо гага-аульским людям запасаться хлебом на лишний тридцать первый день, с тех пор на лишний день надо готовить хлеб, которого Кашкар не дает теперь гага-аульским людям.
— Что у народа есть, что хочет он со мной ссориться? — спрашивал он у Гамзат-муллы. — Раньше мне давали, и я давал, а теперь... я без них двадцать лет проживу, они без меня один год не смогут прожить.
— Между нами и тобой, между нами и народом — разница: ты двадцать лет без них, они — один год без тебя, мы же одну неделю без них не проживем, если бог разгневается на нас.
— А я не боюсь и бога, слава ему, милостивому и милосердному.
— Я сам не боялся бы, если бы был на твоем месте.
— Каждый должен быть на своем месте... Как ты думаешь, мулла, какая теперь власть за горами?
— Большевики... В книгах написано, что долго будет власть людей, которые не верят в бога.
— Всегда у таких людей власть была, — засмеялся Кашкар.
— Никогда у таких не была, как у большевиков. Это что за власть, при которой если есть имущество — плохо, нету — еще хуже.
— Мне не плохо, а как другим — не мое дело.
* * *
Таял снег. Люди чуяли, что текут под ним тысячи струй: недаром же взбухла и пожелтела река. Люди все чаще и чаще вверх смотрели, на солнце, и подставляли под теплые лучи лица, в морщинах которых осела за зиму сажа, на которых одна тревога сменялась другой: какое лето будет?
Одна Ханисат не тревожилась — знала, что погиб Гассан, а люди притворялись перед нею и говорили, что он вернется весной, а пока в городе сидит, у Айши.
— Нет, — Ханисат отвечала, — погиб Гассан. Я вижу плохие сны.
— Грешно так говорить, девочка! Ты можешь сама на него беду накликать. В городе сидит Гассан.
— Нет, нет! — плакала Ханисат.
Скоро весна, и писала домой Айша:
«Дарагой бырат майя Гасан Усман! Добрдень как поживайш и как твоя здаровия. Мая здаровия пока ничево, я живию иичезо, мы не рабы. Раб такайя человек какайя бисприкословно пачиняется раба такайя человек какайя бисприкословно малчит. Товарич казицкий сказала мне когда придешь летни вирема на гага-аул придешь висна скоро прийдешь лето не скоро. Таварич Федотва сказала записаца камсамол таварич Федотва казицкий очин хорошия людие кажный ден Таварич Федотва давала биз деньги чай и патака и суб и миаса и хлеб Таварич Федотва сказала када придешь летни вирема Ханшсат сюда придешь вместе будете товарич Федотва дала мне платья два штук када гага-Аул придешь дайю Ханисат Баки не даю яа учица читат писат многа падруга учица читат писат Прулитари всих стран содиняйс Совецка власть рабочих и кристан кирепко целувайю ханисат, замират, мадин такжо мариам паджалста када пиридет летни вирема када город пайдет чя нибуд прашу присылат писма мало ячмени чюрек твайя систыра айша».
Когда Дагир сказал, что открылась дорога на белый свет и что царствуют большевики на белом свете, Баки оседлала мужу коня — верхом поехал он в город.
Пешком пошел Осман.
Днем, на солнце серебряными украшениями сверкая, топтал Кашкар гага-аульскую землю копытами коня, играл конем. Ночью Осман, даже от луны прячась, вышел из Гага-аула. Прощаясь, говорил сестре:
— Не рассказывай, что меня дома нет. Народ привык, что лежу я, ты и говори, что лежит.
Кашкару на коне три дня ехать в город, Осману пешком идти пять дней...
В городе Кашкар свернул к Казицкому.
— Дорогой товарич болшовик! За Советскую власть я жизнь отдать готов.
— Ты где, Кашкар, выучился русскому языку?
— Как же мне не знать русский язык? Теперь русский человек для бедного горца самым лучшим человеком стал. Раньше я шел против пристава, против офицера и против солдат. Теперь я куда хочешь пойду с Красной Армией... Я, Кашкар, такой, а народ — нет... Правду говорили мне по дороге люди, зимой бунт делал наиб-имам? — осторожно спросил вдруг Кашкар.
— Правду.
— Вот видишь, какой народ на горах. В Гага-ауле слышали, когда стреляли пушки. Слушал, говорил: долой болшовик, долой рывком прыдсыдатыл, все долой! Один человек зимой пошел на гора, хотел турецкие аскеры приводить на Гага-аул, чтобы они болшовиков убивали — Кашкара и жену его. Это разве хорошее дело?
Кашкар, по обычаю, не назвал жену по имени.
— Так... Потом что?
— Потом он помирал, наверно: не пришел обратно. Ты знаешь, какой этот человек? Этот человек Гассан — Айша брат. Зачем такой девка из Гага-аула брал в город, хлеб-мясо ей давал, учил?.. Разве лучше девка не был в Гага-аул, жирный девка разве нет в Гага-аул?.. Айша худой.
— Так... Еще рассказывай.
«Почему он молчит все?» — думал Кашкар и рассказывал ’еще:
— Теперь он волнует народ. Хочет бросать Гага-аул, к имаму хочет пойти. Что будем делать, товарич Казицки? Ты болшовик, я болшовик: нам надо быть вместе.
— Войска послать?
— Правильно, товарич Казицки: надо войска послать, надо наказать народ. Народ думает: царь нету — войска нету, власть нету. Народ посмотреть хочет: сильный ли — несильный совецкий власть?.. Дороги нет в Гага-аул — не пойдет пушка, а хорошо был бы пушка...
— Этим летом проведем дорогу в Гага-аул.
— Дорога?.. Дорога зачем?.. Если дорога в Гага-аул пойдет — народ жадный, все будет в город увозить продавать, а сам голодный останется. Жалко народ. Ты русский болшовик, я горский болшовик. Тебе не так жалко народ, как мне.
— Пожалуй!
«Болшовик, проклятый болшовик: путного ничего не говорит», — еще раз подумал Кашкар, а вслух сказал:
— Конечно!
— Ты, Кашкар, пока поживи в городе, а мы здесь это дело обсудим. Вероятно, придется послать войска.
— Очень хорошо... Конечно, жалко горский народ, но что я буду делать, когда он сам себе добро не хочет?
— Да-а... Зайди, значит, дня через два, — хотел закончить разговор Казицкий.
— Зайду... Товарич Казицки, еще один дело есть: Айша, — не уходил Кашкар. — Разве можно такой народ учить?.. Ты ее учишь, хлеб-мясо даешь — она потом говорить будет: совецкий власть плохой. Разве можно?
— Хорошо: о ней тоже подумаем. Через два дня приходи. До свиданья!
— До свиданья!.. Прогонять такой девка надо... Товарич Казицки, еще один дело есть... Правду скажи: какой я человек? — спросил Кашкар.
— Хороший.
— Я много для совецкой власти добро сделал, совецкий власть мне спасибо не сказал.
— Скажем еще. Подожди немного.
— Целый год ожидал... Товарич Казицки: один дело есть... Пожалуйста, скажи: пускай Кашкару френч и галифекс дадут.
— Френч и галифе?
— Конечно!
— Кому же я скажу?
— Ты большой человек — ты знаешь. Письмо напиши: пускай Кашкару френч и галифекс дадут.
Казицкий написал записку и протянул Кашкару.
— Ладно... В хозчасть пойди.
— Ай, спасибо, спасибо, товарич болшовик! Ай, спасибо, спасибо, совецкая власть!.. Теперь народ увидит, что начальник Кашкар, и слушаться будет.
— Ладно, до свиданья!
— До свиданья, до свиданья!
* * *
Осман пришел в город через пять дней. В городе много всяких людей. Они разговаривали друг с другом, и никто не смотрел на Османа: ничего не было у него, кроме рваной овчинной шубы, в которой ходить жарко. В таких шубах в городе ходят нищие.
Встретил Осман горского человека.
— Ас-салам алейкум, добрый человек!
— Ва-алейкум салам!
— Скажи, пожалуйста, ты нигде не видел Гассана?
— Какого Гассана?
— Гага-аульского.
— Нет... Как мог попасть сюда гага-аульский человек?.. Где Гага-аул?.. А что он — кровник тебе?..
— Нет, родной брат.
— Какой же ты мужчина, если не знаешь, где брат твой?.. Прощай!.. Дай тебе бог найти его.
— Спасибо... А может быть, ты знаешь, где Айша?
— Какая Айша?
— Сестра моя.
— Уходи от меня! Какой ты человек, если не знаешь, где брат и сестра твои?
Осман опять остался один.
Шурша обрывками бумаги, вдыхал ветер уличную пыль, и Осману казалось, что он утопает в ней, захлебывается. Люди встречались редко, и все они смотрели зло и сердито. Осман не решался заговорить с ними.
На базаре Осман увидел, чем заняты городские люди: они слонялись между рядами пустых палаток и лотков и таинственно спрашивали у продавцов хлеб, или мясо, или овощи.
Там тоже никто не знал про Айшу и Гассана, и Осман обрадовался, когда услышал, что зовут его:
— Ты что тут делаешь?
Это Махмуд позвал. Он приехал из Баку на месяц в отпуск и на базаре искал подводу, чтобы подвезли его в сторону Гага-аула.
— Ас-салам алейкум, о Осман!
— Махмуд?.. Алейкум салам. Ты почему здесь, Махмуд? Ты разве в прошлом году не в Баку поехал?
— Видишь, весна... На целый месяц отпуск дали:
— Целый месяц деньги не будешь зарабатывать?.. За что так наказали тебя?
— Жалованье идет: отпуск — отдых... Какие новости в Гага-ауле, Осман? Расскажи: целый год не был.
— Новостей много: Гассан пропал. Айшу большевики увезли, и никто не знает, что они сделали с ней.
— Куда увезли?
— Говорили, что в город везут учиться, а я ее нигде не вижу здесь.
— Где же ты искал?
— По всем улицам, и вот на базар пришел.
— Хорошее место.
— Мне говорили, на базаре всегда народ.
Они вместе пошли искать Айшу. Осман рассказывал Махмуду гага-аульские новости: какой налог Кашкар назначил, как пушки гремели и как ушел и не вернулся Гассан.
— Ай, ай! Ну, может быть, жив он, может, в городе где-нибудь. Хорошо, что встретились мы... Здесь партийный комитет, где большевики работают, — остановился Махмуд у входа в красивый дом. — Зайдем, спросим сначала у них.
— я не пойду, Махмуд: кто знает, какие они?
— Как люди.
— Нет, не пойду.
— Пойдем, Осман! Плохого ничего не будет. Здесь и про Гассана можно спросить.
— Тогда пойдем.
В комнате, в которую Махмуд ввел Османа, сидело много женщин, а Осман никого не видел, и Махмуд говорил за него.
— Товарич дженчина! Вот человек пришел из гор, свою сестру ищет.
— Обратно взять хочет?.. Скажи, что не отдадим!
Голос женщины показался Осману знакомым.
— Зачем обратно взять?.. Дело есть, — возразил Махмуд.
— Из какого аула он? — спросила женщина.
— Из Гага-аула.
— Айшу ищет?
— Айшу. Он бедный человек. Когда пушки на горах зимой стреляли, его брат через горы пошел правду искать и не вернулся. Он Айшу ищет, узнавать хочет: его брат приходил, не приходил сюда?
— Какую правду?
— Он хотел узнавать: Кашкар правильно, неправильно налог назначил?
— Какой налог?
— Разверстка... Кашкар сказал всем: «Половину урожая давайте». Разве правильно, товарич дженчина?
— Ну, вот... Я же говорила!.. Дальше рассказывай!
— Дальше: народ не хотел давать, и его брат пошел зимой на гора. Разве можно на гора зимой ходить? Снег, человек падает...
— Я не слыхала, чтобы приходил зимой кто-нибудь к Айше. Теперь я вспомнила: этот Осман или Гассан?
— Гассан на гора; это — Осман.
— Здравствуй, Осман!
Осман вскинул на Федотову глаза и спросил, узнав ее:
— Айша?
— Товарич дженчина, по-русски не знает Осман.
— Ас-салам алейкум, Осман... Скажи ему, что жива и здорова Айша. В совпартшколе она. Ты знаешь, где совпартшкола находится?.. Ты сам кто такой?
— Махмуд из Гага-аула... В Баку работаю.
— Рабочий?.. Партийный?..
— Немножко.
— Как так?
— Кандидат, товарич дженчина!
Федотова засмеялась и сказала:
— Так.. Это хорошо!.. Совпартшкола помещается... знаешь ты казаиалиевекий дом?
— Генерал Казаналиев?
— Да... в его доме...
— Хороший дом... Мне нравится.
— Мне тоже... — опять улыбнулась Федотова. — Айшу там найдешь.
Когда вышли, спросил Османа Махмуд:
— Ленина видел?
— Нет... Там одни женщины были.
— На стене его большой портрет висел... смеется.
— Зачем смеется?
— Радуется: какое дело сделал, а?.. Какое дело!.. У Казаналиева дом отнял и там Айшу поселил; в Баку у всех богачей, которые нефтяные промысла имели, дома и промысла отнял. Теперь там наше все...
Пока Кашкар, Осман и Махмуд по городу ходили, Ытим побывал в соседнем ауле: певец из многих рек испить должен, чтобы узнать, какая вода лучше для него. Когда вернулся, спел гагааульцам Ытим:
Прислал послание наиб-имам32
К праведным мусульманам с призывом
На помощь идти:
Наступают неверные сильно.
Его помощник приказ прислал:
У кого пробились усы, — все
Обязаны выступить.
Не пошли малодушные,
Но и не отняли у богатых даже половину сабы;
Избавились — послали бедных,
Оружие дали им...
У кого вера крепкая — выступил...
В аулах сидеть остались бесстыдные...
В священном газавате33.
Радостно дрались газаватчики...
С утра до полдня дрались.
Победили верные большевиков и мунафиков34,
Топорами разрубая снег, разрубая лед,
Дороги выправляя кирками.
Дошли до нас неверные —
Впереди пятьсот мунафиков.
Куда ему пожелать деться, проклятому?
В Дорота-ауле остановился Адаев,
Выставив красное знамя;
Открыл войну,
Из пулеметов стреляя,
Большевистские полки в обход пошли —
Твердости у воинов имама не хватило:
Отступили;
Настал день, когда патронов не стало.
Адаевский отряд достиг Дзоно-аула...
Телефон звонил беспрерывно.
Адаевский отряд дорогу очистил.
Открыв войну бойцам имама,
Адаевский отряд в Тлопс-аул спустился.
Пропали дела ислама,
Исчерпаны все пути его.
Скверные кафуры35 его окружили,
Нет ему удачи, Изо дня в день он меньше,
Снаряжения тоже меньше:
Купленное за дорогой хлеб, не помогло оно36.
Можно ли сердиться на молодежь?
Бодается ли безрогий буйвол?
За бегущими собаки бегут —
Большевистские полки вошли в ущелье...
Стала кафурами половина Кавказа,
Мунафиков оказалось много —
Дела ислама пошли к закату...
Мунафики Адаевы из-за жен большевиками стали.
Хороши герои —
Люди, лишенные власти над своими женами37.
О аллах, помоги убрать этих неверных,
Или наступит скоро конец мира38.
Так Ытим пел. Слушал и трепетал бедный гага-аульский народ...
Скоро выступил отряд из города в Гага-аул. Кашкар просил, чтобы с музыкой выступил. Казицкий распорядился, чтобы с отрядом музыка была. Кашкар просил, чтобы Казицкий не брал толмача: он сам, Кашкар, будет толмачом. Казицкий распорядился, чтобы не было толмача. Накануне отъезда Казицкий сказал Осману и Махмуду, чтобы и они отправились в Гага-аул: Махмуд — сегодня же, а Осман — через два дня.
— Как я могу еще три дня в городе сидеть? Весна, надо работать, Гассана искать... Разве я один могу работать? — запротестовал Осман.
— Товарич Казицкий говорит, лучше знает товарич Казицкий, — успокаивал Махмуд. — Ты один человек, а здесь большое дело будет: ты слушаться должен.
— Как я могу еще три дня в городе сидеть? Кто знает, зачем солдаты идут в Гага-аул? У меня там четыре сестры осталось, — не понимал Осман.
— Товарич Казицкий говорит: Османа сестрам ничего не будет. Ничего не будет, Осман! Я отвечаю.
Когда выступили войска из города в Гага-аул, Кашкар ехал рядом с Казицким. Он вез в хурджинах френч и галифе и отдавал «честь» всем встречным.
— Товарич Казицки, праздник в Гага-ауле будет, когда музыка придет! Горцы никогда музыку не видали.
— Большой праздник будет, — улыбаясь, отвечал Казицкий.
— Айше ты что сделал, товарич Казицкий? Ты Айше ничего не сделал?
— Успеем еще.
— Я знаю: ты раньше другой девка найти хочешь, жирный девка. Худой кобыла и худой девка — никуда не годится; худой жеребец — хорошо. Ты хороший человек, товарич Казицкий: я тебе хороший девка приведу.
— Ай, спасибо!
И все-таки Осман не остался в городе.
«Гассан пропал, — думал он, — они и меня не выпустят. Кто знает, что дома случится? Махмуду хорошо: у него в Гага-ауле ничего нет».
Осман вышел вслед за отрядом и, когда тот остановился на ночлег, — перегнал его.
Красный отряд шел через горы, переходил реки.
Разные люди среди горского народа, и потому, что была зимой война в горах, одни из них поглубже в горы уходили — прятались, другие навстречу отряду выходили — помогать. Это были красные партизаны, орлы горские; из своих гнезд, крылья расправив, вылетали они, свои когти в тело Деникина вонзали.
Товарищ Казицкий говорил им:
— Спасибо, товарищи красные партизаны! Мы идем не воевать, мы никого не собираемся трогать. Идите по домам и спокойно делайте свое дело. Следите за тем, чтобы наши враги не поднимали головы, чтобы они из засад не причиняли нам вреда.
— Яшасун кызыл-аскер! Яшасун совецкий власть! Яшасун елдаш39 Ленин! — кричали партизаны. Они провожали Красную Армию от аула до аула, пели песни.
Для злобы — волки,
Для драки — львы,
Пятнистых офицеров мы в лесах искали....
Слушайте, приветствуем лучшие времена!..
Пришли эти времена
В блеске свободы.
Гей, восстань, молодежь!
Мы свет несем миру...
Слушайте, приветствуем лучшие времена!..
До этих дней душил нас царь
Своей жестокой железной рукой —
Затуманились наши’ глаза...
Слушайте: приветствуем лучшие времена!..
Князья и шейхи весь мир захватили,
Мы получали кошачью долю...
Слушайте: приветствуем лучшие времена!..
Смотрите на знамя и надпись,
К новой войне точите кинжалы,
Разбив врагов, успокоим сердце,
Слушайте: приветствуем лучшие времена!..
Для злобы — волки,
Для драки — львы,
Пятнистых офицеров мы в лесах искали...
— Да здравствуют революционные горцы! — отвечал им товарищ Казицкий, и играла музыка.
Для кого праздник был, а для кого печаль. У Кашкара на лице праздник был, а внутри печаль: почему-то даже есть не хотелось ему, а когда он увидел Махмуда и нагнал его, еще горше стало ему.
— Ты, Махмуд... ты зачем здесь идешь?
— Домой иду, в Гага-аул. Целый год не был, теперь в отпуск отдыхать иду.
— Кто может отдыхать в Гага-ауле? По ячменному чуреку соскучился?
— Соскучился, Кашкар! Почему ты мне даже «здравствуй» не сказал?
— Не ждал тебя встретить и забыл. Лучше я тебе «до свиданья» скажу.
Кашкар придержал коня и подождал Казицкого.
— Дорогой товарич! Я хочу вперед поехать, чтобы хорошо встретить вас в Гага-ауле.
— Что ж, поезжай, — сказал Казицкий и спросил, заметив Махмуда: — Кто этот человек?
— Наш гага-аульский... Махмуд...
— Верить можно ему?
— Потом скажу... — шепнул Кашкар, молодцевато загорячил коня и поскакал.
Он придержал его, скрывшись от Казицкого за утесом. Конь пошел, статно пружинясь, визжа железом подков на гранитных бугорках тропы.
Хорошо одному по горам верхом ехать. Кажется, что нет конца чудесам, которые таятся за изгибами пути: всюду по-новому шумит река, гуще громоздятся скалы. Встречные, как видения, вырастают на пути и ползут с тропинкой под ноги коня — гордо на коне сидя, с людьми встречаешься, гордо землю копытами коня топчешь.
По небу облако плывет... Гейт!..40 Над головой коня плеть взвиваешь. Скачешь, но убегает облако. Пусть спорят ветер и солнце на лице: солнце жжет — ветер жар сдувает.
Аулы и башни темнеют на дальних утесах. Точно карточные — безлюдны они. Дремлешь, качаясь в люльке седла: всех красивей ты, на коне сидящий.
Кашкар ничего не видел. В городе он мечтал, что счастливым будет его путь, что дома оденется во френч и галифе. А теперь он передумывал все, и, точно чуя его думы, спрашивал Махмуд Казицкого:
— Зачем ты отпустил Кашкара? Провокац будет.
— Ничего, не бойся, Махмуд! Он ничего не сделает, — отвечал Казицкий и поглядывал на отряд, как зерна ожерелья блиставший штыками на нити тропинки.
Казицкий не знал, что Осман уже перегнал их. Никто не знал. Сам Кашкар, когда увидел Османа на верхних зигзагах тропинки, удивился. Он вспомнил упрямое молчание Казицкого, встречу с Махмудом.
— Подожди, подожди, Осман! Ты что делаешь на белом свете? — забеспокоился Кашкар.
— Хожу.
— Разве со своим отцом разговариваешь, что грубить вздумал? Ты знаешь или не знаешь, кто я такой? Эй, паршивец, — выругался Кашкар, — как ты смеешь отвечать так? Ты думаешь, что я болшовик, и ты поэтому можешь делать, что хочешь? Я рывкома прыдсыдател... Или ты забыл времена, когда без письма старшины двадцать шагов из Гага-аула сделать не мог? Или моя власть меньше, чем старшины?
— Не тебе меня ругать... Мы знаем, почему твой отец разбогател, почему его старое начальство любило.
— Э! Как смеешь ты такие слова говорить? Вот тебе, чтобы знал! — ударил Кашкар Османа плетью.
— Кто позволил тебе бить меня?
Осман вцепился в Кашкара, чтобы сбросить с коня.
Стыдно горцу не самому с коня сойти. Стыдно было Кашкару с коня быть сброшенным: плетью бил он Османа по рукам и, вырвавшись наконец, пустил коня вскачь — не догнал его и камень, брошенный Османом.
* * *
Стемнело, когда приехал Кашкар в сонный Гага-аул. По пути он остановился около сакли Дагира и велел, чтобы Дагир пришел к нему. Дагир пришел, и Кашкар послал его позвать Гамзат-муллу, Джабраил-кадия, Абу-Талиба и Керима — близких своих. Никто чужой не узнал, как пришли они все к Кашкару.
Долго горела у Кашкара лампа. В комнате было душно. Гости сидели за столом потные: они пили много чаю — три раза доливала Баки самовар.
Начало светать, когда Кашкар проводил гостей. На дне ущелья и в узких улочках Гага-аула сгущался мрак, и над ним, точно множество плотов, причаливших к утесу, поблескивали квадратные кровли.
На дальнем кряже сверкала четкая полоса снега.
Утром проснулись люди. Они омылись, готовясь к молитве: подымать к небу красные от трахомы глаза, приникать к земле лицами, обезображенными сифилисом, и ладонями твердых рук призывать на себя благословение и отвращать проклятие.
Тогда запел муэдзин:
— Бисмилляги ррахмани ррахим!.. Тревога, тревога, правоверные...
От этого зова трепетал в саклях гага-аульский народ. Какое горе идет на Гага-аул?.. К какому горю он приготовиться должен?.. Люди бежали к мечети.
— Тревога, народ! — встретил их Гамзат-мулла. — Зимой пушки гремели на белом свете, лето настало для того, чтобы открыть пушкам дорогу в Гага-аул. Пушки сюда идут, народ! Камунисты и Красная Армия идет! Кто знает, что камунисты с людьми делают, что со стариками-старухами делают, что с молодыми женщинами, что с девушками, что с мужчинами, что с мальчиками?.. Старухи-старики не нужны камунистам — они убивают их; молодых женщин раздают они солдатам, девушек — своим офицерам, мужчин в Китай воевать посылают, мальчиков себе самые старшие начальники берут. Берегись камунистов, народ! Берегись тех людей, которые приводят камунистов в наши горы! Зимой Гассан пошел за ними, теперь привел их Осман. Эти братья свою сестру в город отдали,, теперь она кахпа там: большой начальник в городе спит с ней, большой начальник посла л сюда Красную Армию.
Гамзат-мулла прокричал и протянул руки ладонями к северу, точно хотел отвратить призрак, приближающийся из ущелья.
— Кто тебе сказал об этом, Гамзат-мулла? — спросил Абубакар.
— Сон видел, и книги сказали мне об этом, народ! Если не сегодня вечером, то завтра утром будет здесь Красная Армия. О аллах, спаси и пощади нас!
— Что же нам делать, Гамзат-мулла?
— Взять имущество свое и уйти на ледники. Красная Армия не дойдет туда.
— Что же возьмем мы?
— Что сможем.
— И ты пойдешь, Гамзат-мулла?
— Как я могу оставить свой народ в беде? После полдневного намаза возьмите имущество свое и оружие и собирайтесь около мечети. Пойдем: бог помогает идущим.
Расходился народ грустно, дома разглядывая свое имущество: что с собой на ледники взять можно? Сильный мужчина и сильная женщина могут взять муки пуд и шубу овчинную, а что донесут старики и старухи? Самих себя не донесут они. Дети — мальчики и девочки — баранов погонят, посуду понесут: детей надо с собой взять, а оставить в Гага-ауле стариков-старух.
Грустный гага-аульский народ осматривал свое оружие. Какое оружие было у него?.. Кремневые ружья, пистолеты кремневые и кинжалы. Что народ с таким оружием сделает? У красных аскеров пушки и пулеметы... Люди рассказывают, что пулеметы тысячу выстрелов делают за один раз, и враги падают от них, как трава под косой.
— О аллах, аллах!..
— Осто пиролла, осто пиролла!..
Большое горе было в Гага-ауле. Народ плакал, когда выходил из домов, когда ждал на площади муллу. Мулла выехал на кадре41, к седлам были приторочены едой набитые хурджины.
— Во имя бога милостивого и милосердного, пойдем, народ!
И он запел:
Рабы божьи — люди божьи,
Помогите нам, ради бога.
Окажите нам вашу помощь.
Верим: спасемся милостью бога.
Для аллаха, рабы божьи,
Помогите нам, ради бога...
Вы, актабы, вы, аудаты,
Вы, абдалы, вы, асяды42.
Помогите нам, помогите нам,
Заступитесь перед богом.
Для аллаха, рабы божьи,
Помогите нам, ради бога!
Подпевали мулле мужчины, и плакали, плакали женщины:
— О-да-дай! Да-да-дай!
А мулла пел, глядя на небо:
К кому идем, кроме вас?
Никого нет у нас, кроме вас.
От вас одних мы ждем счастья,
Святые вы, божьи люди!
— О-да-дай! — вскрикивали женщины.
Ущелье сжималось. Люди чаще исчезали в мелкой поросли сосен, за которыми сверкал разодранный, словно изрубленный шашками, панцирь ледника; снежный шлем его уперся в небо.
О боже наш, боже наш,
Помощник наш, крепкий наш,
Удали горе наше,
Причисли к людям твоим.
Услышать, боже, волю твою —
Вот желание, вот цель наша.
Твое имя на устах наших,
Слава твоя — оружие наше.
Для аллаха, рабы божьи,
Помогите нам, ради бога!
Ложился на дно ущелья вечер. Четко обозначалась серебряная чекань реки. Как нарисованные, высились над людьми в прозрачном воздухе горы. Засветилась на небе и на людей робкая взглянула звезда. Люди шли жалкие, беспомощные, спотыкаясь о глыбы камней, мягких и скользких от моха — по ним вела невидная тропинка.
Для аллаха, рабы божьи,
Помогите нам, ради бога! —
взывали мужчины, и плакали изнемогающие женщины, а в хвосте шествия, колеблясь и волнуясь, блеяли овцы.
* * *
Когда Кашкар ускакал в Гага-аул, Осман остался на дороге: в аул пойдет — Кашкар обидит, красный отряд здесь ждать — Казицкий обидит. Что делать?
До вечера раздумывал Осман, и не подоспел красный отряд. Спустившись с дороги, Осман уснул. Утром разбудил его ледниковый ветер и река: по утрам кричат реки в горах о любви — любящим, о грусти — грустным, о ненависти — ненавидящим. Осману кричала про обиду.
— Ай, Кашкар, Кашкар!.. Ты сейчас дома со своей капха спишь, — в могилу я тебя уложу! Если нет, — пусть я не похороню Гассана в Гага-ауле!
Он пошел по берегу и опять лег на землю, смотреть на небо. Думал, думал. Земля ждет, работать надо, пахать пора. Если теперь не работать, — когда? О, Кашкар и Баки, сколько вы зла Осману сделали!.. Гассан из-за вас ушел и погиб. То мы вдвоем работали бы, а теперь я один. Теперь я один. Теперь вы кровники мне — Гассан, нашего дома работник, из-за вас пропал. Теперь Осман тоже должен лишить вас работника; теперь вы два раза кровники мне: Кашкар побил меня.
Осман не пойдет на Кашкара лицом к лицу, но засаду устроит... Что сделает Осман, когда убьет его? Ухо отрежет. Убьет за Гассана, ухо отрежет за побои. После этого Кашкару такой позор будет, какого не имела ни одна кахпа: ухо!..
Смотрел Осман на небо: перед глазами ни одной точки нет, на которой можно было бы остановиться взгляду. Верно ли, что на небе гурии43 есть? Сколько народу умерло из-за них в газавате... Наверно, есть — иначе не умирали бы.
А откуда вода берется? Одни люди говорят, что от льда: тает. Другие — что под землей вторые русла есть; по ним вода возвращается обратно, чтобы опять бежать в море. Иначе море давно землю затопило бы, и снега на горах давно бы растаяли...
Товарич Казицки хороший человек?.. Немножко хороший... А вдруг люди правду говорят, что он Айшу взял для себя?
Осману страшно представить, какая Айша с Казицким, но воображение настойчиво.
— Тогда убить надо товарич Казицки, — вскочил Осман. Он начал ходить по берегу; бежала река, и брызги били его по лицу.
— Эй, Осман! — сверху крикнули, а он не слышал — шумела река.
— Эй, Осман! — А он не слышал. Побледнел вдруг и спрятался за камень: выстрелил в него кто-то. Кашкар? Нет, Махмуд выстрелил и рукой машет: иди сюда!
— Ты что здесь?
— Лежал.
— Зачем лежал? Товарич Казицки серчать будет. Он сказал, чтоб ты остался в городе. Зачем ушел?
— Боялся. Боялся, что красные аскеры придут в Гага-аул раньше меня и обижать будут.
— Глупый ты, Осман! Разве я дам бедных людей обижать?
— Ты один.
— Товарич Казицки что скажет? У большевиков слушаться надо. Пойдем вместе, пока не догнали нас. Хорошо, что ему надоело ехать: своего коня мне дал.
— Не успеем до вечера в Гага-аул.
— Завтра придем. Не понимаю, зачем товарич Казицки отпустил Кашкара? Провокация будет. Ты его не видел?
— Видел... А что такое провокация?
— Напрасные хлопоты.
Пошли вместе.
— Махмуд, а Махмуд! Надо Гассана искать. Мне в Гага-ауле оставаться нельзя, если не похороню его — люди смеяться будут.
— Пойдем, Осман! Пойдем поищегл. Я товарич Казицки попрошу: он красных аскеров даст.
— Какое дело красным аскерам до Гассана? Для чего им искать его?
— Большевики другой народ, Осман! Они и туда лезут, до чего другим дела нет... Зачем он солдат ведет в Гага-аул? Война будет? Нет. А солдаты пятый день идут. Тебе в городе понравилось, Осман?
— Понравилось. Там девки жирные и одеты, будто на них ничего нет.
— Они вашей работы не знают: не годятся в жены.
— Зачем работать?.. Не работать лучше. Я сколько работаю, другие сколько, и ничего нет. Кашкар ничего не делает — все есть.
— Кашкар за ваш счет живет.
— Разве я покупал ему лошадей, ослов и мулов?
— Конечно, ты...
— Как так?
Махмуд объяснил. Осман слушал, и часто останавливал, держа за узду, коня, и спрашивал:
— Значит, наше это?
— Ваше.
— Почему же он не отдает нам?
— Кто отдаст добро по своей воле? Отнимать надо! — смеялся Махмуд.
* * *
Боялись выглянуть, прятались в саклях старики-старухи, когда входили красные аскеры в Гага-аул, и на горбатых, путаных улицах взвизгивали их кованые подборы. Кашкар ехал рядом с Казицким, говорил ему, что, наверно, сказал кто-нибудь гагааульцам о приходе красных аскеров, наверно, Осман сказал: весь народ на ледник ушел.
— Не я говорил тебе, что не хочет он Советской власти?
— Хорошо сделали, что ушли... Кто такой Осман?
— Айши брат... Гассан на гору пошел, Осман здесь... Не я говорил тебе?
— Арестовать его?..
— Очень приятно.
— Красноармейцев разместить надо.
— В любой сакля пусть идут.
— Товарищ комбат, распорядись! На тропинках дозоры выставить! Кашкар, завтра митинг! Сделай, чтобы все были! — приказывал Казицкий.
— Кто придет? Никого нету: все на гора пошел, — говорил Кашкар, но Казицкий не унимался:
— Кто есть. Пусть старики и старухи придут.
— Конечно, можно. Товарич Казицки, домой пойдем: жена хороший плов сделал. Товарич командир, ты тоже пойдем!
* * *
Когда спустилась на горы мгла, дозорным стало тревожно. В темноте скалы походили на врагов и сулили опасность. Звездное, обрезанное изломами горных кряжей небо; ночь глушила чьи-то шаги. Казалось, что тесно будет бороться и умирать в этих местах.
Дозорные ругались; лишь к утру, под алыми лучами невидимого еще солнца, прошла тревога.
У ледника спали, прижавшись друг к другу, дети, укрытые захваченными из дома лохмотьями. Женщины дремали около них, а мужчины сидели возле муллы и пели безрадостно:
Ла-иллаха иль алла...
Ла-иллаха иль алла...44
Ледник свисал над ними влажной и густой прохладой.
* * *
Утром в Гага-ауле Дагир ходил по улицам и сзывал людей на митинг. Старики-старухи ползли на площадь, одолевая подъемы. Они исподлобья оглядывали красноармейцев, обутых в тяжелые ботинки, обтянутые непонятными — то ли мужскими, то ли бабьими — обмотками.
— Йе, аллах, аллах! — вздыхали старики. — Что будет, то будет.
Около мечети Кашкар разговаривал с главным большевиком и красноармейским начальником. Одетый во френч и галифе, он гордо посматривал на подходивших и не всем отвечал на приветствия.
— Надо, чтоб сели они, — попросил Казицкий.
— Ничего, постоят. Не поднимутся, если сядут: старые, — засмеялся Кашкар и заговорил о том, что надо устроить в Гага-ауле настоящий кооператив. — Только для этого денег много надо: без денег никто войти не согласится.
Но Казицкий прервал Кашкара:
— Ты настоящий большевик: ты старость не почитаешь уже?
— Конечно!
— Для Советской власти молодых не жалеешь? — продолжал Казицкий перечислять заслуги Кашкара.
— Конечно!
— Ты весь Гага-аул для нас отдать готов?
— Конечно.
— И самого себя?
— Конечно!
— Молодец, Кашкар! От Советской власти большое тебе спасибо!
— Конечно! Стараюсь... — довольно вздохнул Кашкар.
— Молодец, молодец!.. Давай начинать, что ли?
— Не весь народ здесь. Махмуда нет, — оглядел Кашкар толпу.
— Махмуда я с завхозом в Джамат-аул послал.
Но Кашкар не верил.
— Я его видал недавно.
— Не может быть, ты ошибся. Начинаем, граждане Гага-аула!.. Кашкар, ты будешь толмачом.
— Конечно!
— Прежде всего задай им вопрос: почему их так мало собралось?
— Товарич Казицки, все на гора ушел.
— Вот и спроси, почему пошел.
— Я вам говорю, почему: Советской власти «долой» кричать.
— Хорошо. Теперь ты переведешь то, что я говорить буду.
Старики-старухи слушали Кашкара, и низко опускались их серебряные головы. Точно их к позорным столбам привязали, камнями били, точно плевали в них. Правда, тугой слух мешал слушать Кашкара, дымом изъеденные глаза плохо видели, каким красивым был он во френче и галифе... А как говорил он! А что говорил! Даже ласточки перестали крыльями сверкать и воробьи прыгать — слушали Кашкара. Счастлив Гага-аул, что есть у него Кашкар. Если бы не Кашкар, кто из гагааульцев мог бы так говорить? Русские разговаривать не стали бы с гагааульцами и, не входя в аул, пушками снесли бы все сакли. Кашкар упросил их пощадить бедных людей, и еще больше: русские большевики согласились не взыскивать с гагааульцев продразверстку.
— Так что все зимние хлопоты напрасны были.
Баки стояла недалеко от женщин, но не с женщинами, и любовалась мужем — забыла, что и шея у него короткая, и голова неповоротливая, и грудь впалая. Говорили ей, что Махмуд пришел. Всю зиму она вспоминала его, а сейчас стало так, точно никто не пришел, точно не было ничего. Если б встретился Махмуд — не узнала бы.
— Что он? Рабочий, а я де-лё-гат-ка, а муж рывкома прыдсыдател.
Осман прятался в задних рядах и сердился, слушая Кашкара.
— Что же говорит этот божий враг и людской враг? Махмуд совсем не то говорил. Махмуд! Ой, Махмуд! Где ты?
— Не мешай говорить! — цыкнули на Османа, а Баки и Кашкар побледнели: откуда-то отозвался Махмуд.
— Здесь!
— Что же молчишь ты?
— Сладко весной соловья слушать. Что же замолчал ты, Кашкар? — вышел Махмуд на площадь.
— Ты откуда пришел сюда? — спросил Кашкар. — Товарич Казицки говорил, что послал тебя в Джамат-аул. Почему ты ослушался его?
— Я вернулся.
— Быстро ходишь.
— Такой уговор был... — улыбнулся Махмуд и сказал Казицкому: — Товарич, я тебе сейчас буду говорить, что ты ему говорил. Кашкар народу так говорил: как посмел нашего большевика в Гага-ауле не слушать? Спасибо скажите ему, что сакли не взорвал, имущество не унес. Кашкар сам тебя за это просил, его жена просил: им бедный народ жалко, они плакали, когда тебя, товарич Казицки, за бедный народ просил. Еще Кашкар говорил: вы меня зимой не слушались, теперь что хотите?.. Хотите, солдаты бить будут... хотите, на плоскость выгоним и казаками сделаем? Спасибо скажите Кашкару: он тебя просил не делать это. Теперь я народу говорю, что ты Кашкару говорил.
Махмуд заговорил по-горскому, и низко опускались стариковские головы.
Что он говорит, этот Махмуд?.. Какими же в городах врунами делаются люди! Кто поверит, что русский солдат как родной брат горскому человеку, что русская власть освободила горцев от налога и не назначала для них разверстку, что горские люди — им тесно в горах — могут переселиться на плоскость? Кто поверит, что русские проведут в Гага-аул дорогу, построят школу, больницу?
— Замолчи, Махмуд: врешь ты! Пускай дело говорит Кашкар! — крикнул Нуцал.
— Не верят, — молвил Махмуд Казицкому и поклялся гагааульцам: — Валлаги, биллаги, правда! До чего же запуганы вы: ясным вещам не верите.
— Шамиль резал врунам языки. Большевик или тебе, Махмуд, или Кашкару должен отрезать: тому, кто врет.
— Большевистское время не шамилевское: не будут отрезать Кашкару язык, но кое-что другое сделают. Отплатят ему за все ваши соленые слезы.
— Валлаги, врешь ты, Махмуд!
— Валлаги, не вру, Абубакар!
— И долги можно не платить ему?
— Можно.
— И разверстку?
— Можно. Я же говорю, что от продразверстки вас Советская власть сама давно освободила; для себя отнимал у вас Кашкар последний хлеб. Теперь все ваше: даже его жизнь — ваша.
Долго спрашивал бы народ еще, но, споря, вышли из улочки два красноармейца и старуха гага-аульская.
— Ой, Сали, за что арестовали тебя? — спросил Абубакар.
Сали пожала плечами и не ответила, поглядывая на красноармейцев: один нес, сгибаясь под тяжестью, вязанку бурелома, другой, вооруженный, шагал около старухи.
Красноармеец бросил вязанку около Казицкого и спросил:
— Разрешите доложить, товарищ начальник!
— Слушаю.
— Товарищ начальник, кто же муж ее, черт его дери, будет?
— На что тебе?
— Товарищ начальник, разрешите доложить... Ты понимаешь, какое дело, товарищ начальник... стоял я это внизу — глядь-поглядь... дрова движутся... Ты не смейся... Разрешите доложить. Думаю: шпионаж ихний обратно в аул пройтить хочет. Сколько ни кричал, — ползут... Присмотрелся я — гляжу, юбка видна: человек, как животное, руками, ногами землю скребет. Ну, известно: шла она, а штык ей дорогу загородил: на землю животом упала. Одно знает: «Алла, алла!» — кричит. За дровами баба ходила, а поднять невмочь. Ну, известно, подмогли. Караульный начальник приказал в штаб доставить.
— Муж-то на что тебе?
— Разрешите доложить, товарищ начальник... Какое ж он право имеет, чтобы жена его...
— Сали муж нету, товарич, помирал, — объяснил Махмуд.
— Как нету?.. Може, хоть сын есть?
Махмуд перевел солдату, что говорила Сали: сын в горы вместе с муллой пошел, и она одна сейчас; поэтому времени много свободного у нее — пошла на реку собирать дрова, которые приносит вода; она бедный человек, беззащитный, и просит только, чтоб не опозорили ее — она сама донесет дрова домой.
— Товарищ начальник, разрешите доложить!
— Ладно уж. Может, донесешь ей дрова до дому?
Женщина и красноармеец пошли через толпу, и смеялись-шутили старики-старухи:
— Нашла себе хорошего мужа, старая!
— Ничего не значит, что она седая и зубоз нет.
— Сын вернется — найдет дома нового отца.
— Расскажи им, Махмуд, что сделал этот красноармеец и почему сердился, — сказал Казицкий.
Кашкар смотрел, к стене прижавшись. Такой бледный, бледный стоял Кашкар.
* * *
На следующий день была гроза. Обещал Казицкий, что пойдут красноармейцы искать Гассана, а в теснине, что из ущелья ведет в город, заклубились тучи и прогремел гром. Тучи плыли, точно торопились на праздник. Как пыльные всадники, мчались они толпой, перегоняли друг друга, сталкивались, падали, поднимались, пальбой гремели. Они быстро завладели солнцем, и на земле точно свинцом налилась пенистая река: притихла, густая и черная.
Громом грохоча, молниями сверкая, прискакали всадники к снежному хребту. Отпрянули — не одолели. И новые полчища спешили на смену и разбивались о ледяные стены. Белая кровь их могучими струями пролилась на земле, градинами рассыпались белые пули. Воюют черные всадники...
В ущелье залегла мгла. Бедные люди гага-аульские сидели в темных саклях и кричали «алла», уткнувшись в постели. На улицах зашумели пенистые потоки, подмывая стены саклей. Вода прорывалась в двери, размывала кровли.
Казицкий стоял на крыльце. Гроза спутала его расчеты. Он думал, что придет в Гага-аул, похоронит Гассана, труп которого скажет гагааульцам больше, чем тысячи речей, а потом просто арестовал бы Кашкара, увел бы его в город. Перехитрил этот сукин сын: выгнал из аула жителей, и они злобствуют сейчас на леднике, а завтра, даже сегодня, может быть, придут сюда войной. Он нарочно приказал дозорам пропускать гагааульцев к беженцам, но кто в такую погоду пойдет на ледник, чтобы рассказывать о большевиках?
— Товарищ начальник, давайте пошлем Османа или Махмуда, — предложил комбат.
— Не поверят им. Вот если бы кто-нибудь из стариков.
— Тогда Кашкара, — указал комбат Казицкому на хозяина, покорно притаившегося в сумрачной прихожей.
— Он-то пойдет... Впрочем, давай спросим. Кашкар, ты не пошел бы на ледник?
— Сейчас? — подполз к выходу Кашкар.
— Да, сейчас.
— Товарич Казицки, ты не знаешь разве: я жизнь за тебя отдам. Скажи — пойду! — захлебываясь, заговорил он. — Кто еще должен о людях заботиться: я рывкома прыдсыдател или не я?..
— Конечно, не ты.
— Значит, тебе Кашкар плохой стал?.. Все равно я о людях заботиться должен: если в Гага-ауле людей не будет, что мне делать?
— Да... пожалуй... И все-таки оставайся дома, — отвернулся Казицкий.
Таяли за колеблющейся сетью дождя серые сакли. Словно плоские, вырезанные из громадного листа фанеры, мутно вырисовывались купол мечети и минарет. Некуда было уйти грозе, зажатой в каменных стенах гор. Многозвучно взрывался гром. Грохоча, отрывались от громад и падали беспомощные оползни. На склоне, где чернели засеянные поля, рассыпались хрупкие каменные межи.
— Йе, алла, алла! За что ты караешь нас? — молили гага-аульские старики-старухи.
Тучи бились о стены гор и, обессиленные, висли над ущельем. Снова смыкали они ряды, снова прыгали на скалы, подхлестываемые ветром.
С пастбищ примчались в аул обезумевшие быки и коровы: красноглазые, они косились на сверкающее небо и недвижной толпой остановились на площади, покорно подставив под дождь трепетные шеи, жалобно и грустно мыча. Жертвенный баран тряс грузным, точно опаленным снизу курдюком. Он сбежал из дому и теперь метался по площади, тяжелый от воды, напитавшей густое, обвислое руно.
Всплывали в зыбкой ткани дождя яркие, размытые дождем склоны. Гудели каменные утробы, когда грохотал гром и перекликалось торжествующее эхо. В садах по-девичьи гнулись деревья и, выпрямляясь, разбрасывали весенние цветы и молодую, упругую листву.
На леднике погасли у людей костры и накренились слабые шалаши. Ледник раскрыл свою серебряную пасть, и люди бежали от множества потоков под камни, волоча по земле кожаные мешки, детей и лохматые войлоки, изодранные и протертые. Но дождь рыскал по ущельям, забирался под навесы скал и заливал муку в мешках. Хлестко свистел ветер, бил в лицо. В блеске молний сине сверкал панцирь ледника, и люди видели, как скатывались по леднику камни, царапая хрупкий и звонкий лед.
Сбежали овцы, и казалось, что на реке пенились их руна. Кадр муллы сипло ревел, прислушиваясь к хриплому плачу детей и ропоту мужчин. Напрасно пытался петь мулла. Ливень заглушал его голос, и пугал гром, который молотом разбивал скалы и грозился задушить все живое, приютившееся внизу.
— Йе, алла! алла! — взывали люди.
Им отвечала молния, зажигая голубые шары на зябких ледяных полях. Женщины прикрывали телами ребят. Покорные, молчали они и никли к детям, пряча соленые слезы.
Страшная гроза бушевала в ущелье, полыхая огнем, визжа ветром, дождем проливаясь.
На заставах терпеливо мокли красноармейцы...
Вечером ярко горели в небе крупные и грустные, как глаза, звезды.
* * *
Старики-старухи оставались в Гага-ауле. Они послали молодого Османа осмотреть сады и пашни. Йе, алла, что ты с бедными людьми сделал? Гроза размыла пашни, разбросала каменные межи. Кто вспахал-посеял, тому заново надо очищать поля от камней, пригоршнями собирать землю и укладывать на скалистых остовах пашен. Кто не вспахал, не засеял — тому поле заново делать.
Йе, алла, что еще ты сделал с бедными людьми? Гроза обезобразила молодую листву деревьев, рассеяла лепестки цветов. Тревога, тревога! Что еще сделала гроза! Каналы вышли из берегов и роют себе новые русла.
— Тревога, гагааульцы! В сады спешите, сады спасайте!
Что могли старики-старухи делать? Махмуд побежал к Казицкому.
— Товарич, дорогой товарич! Помогайте бедным людям, пожалуйста...
Только Осман и Баки — молодые — работали с лопатами в своих садах. Каждый засыпал у себя в саду прорывы каналов щебнем и крепил их тяжелыми кусками дерна.
Омытый грозою, легко дышал ветер гор, легко работалось. В мутную воду окунулись ноги, и вода зябко, как холодные змеи, проползала меж пальцами.
Народ, который спасался на леднике, всю ночь думал о своих полях, садах. Знал: не прошла для них ласкою гроза, исковеркала, обезобразила, смыла.
— Быть ему божьим врагом, мулле: зачем он привел нас сюда?
Люди тряслись в ознобе и ждали, когда же съест солнце спасавшуюся на дне ущелья зябкую и сырую тень.
— Я видел сон, — начал рассказывать мулла, — ночью явились ко мне два ангела и вознесли превыше всех небес.
— Двадцать тысяч и четыре тысячи ангелов явились к нам вчера и вознесли превыше всех небес, мулла! Лучше бы они нас на землю не спускали, не пробуждали.
— Что нам здесь делать, бедный народ гага-аульский: останемся — умрем, вернемся — большевики убьют. Мы даже одного из них убить не можем: вымок порох, и наши ружья как палки теперь.
— Я видел сон, — упрямо убеждал мулла, — ночью явились ко мне два ангела, и вознесли превыше всех небес, и поставили перед лицом аллаха...
— Скорее рассказывай, мулла: нет времени у нас слушать, ибо, клянемся аллахом, погибли сады и поля наши!
— И он сказал мне: пусть вспомнят правоверные о битве бадрийской. Не я ли помогал посланнику своему? Не я ли засыпал песком глаза врагов пророка, и малые числом мухаджиры45 не потому ли победили кафуров-мекканцев? Я с теми, кто идет по пути моему: с покорными... Вы пойдете, правоверные, по пути аллаха, обнажите меч ислама — и будет порохом порох, ружьями ружья...
Когда с кирками и лопатами, найденными в покинутых саклях, красноармейцы собрались на площади, чтобы идти в сады и на пашни, увидел Казицкий, что возвращаются гагааульцы с ледника. Их толпа не умещалась на тропинке. Они широко разошлись по крутому склону горы, твердо ступая по узким дорожкам для скота, переплетающимся между собой.
Красноармейцы побросали лопаты и кирки. Ряды охватило суровое оцепенение. Подчиняясь команде, отделялись взводы, перестраивались и гуськом вползали в улицы, пробираясь на позиции.
— Смотри, Махмуд!
— Смотрел, товарич... Драться будут: мулла не видно.
— А дальше там кто идет?
— Дженчины... Дженчины тоже драться хотят. Очень плохой дело, товарич! Ох-ох, такой плохой!
— Что можно сделать?
— Мне к ним поехать надо.
— Тебе поверят? — торопил Казицкий, но Махмуд отвечал медленно и раздумчиво:
— Немножко. Ышчо один-два старика взять надо.
— Бери и спеши к ним. Я скажу, чтобы лошадей оседлали.
Кашкар оседлал своего коня и подъехал к Казицкому проситься, чтобы его отправили встречать гагааульцев.
— Ты мне здесь нужен! — утешил его Казицкий и ссадил с лошади. Он помог взобраться на седло старому Нуцалу. Своего коня Казицкий дал Махмуду.
Старый Нуцал и Махмуд остановили гагааульцев.
— Куда вы идете, бедный народ?
— Ты спрашиваешь, точно там не наши дома. Или большевики объявили себя хозяевами? Мы идем, чтобы убили всех нас. Вот груди наши, жен и детей наших: мы знаем, что погибли поля, — зачем нам медленно умирать?.. Пусть убыот нас.
— Нет, если даже просить будете, — не перестреляют вас. Расскажи им, Нуцал! — попросил Махмуд и поверх нулся на седле, чтобы не мешать старику.
Голос Нуцала глуншла река, и не верили ему гагааульцы.
— Ты старый человек, Нуцал, не можем мы сказать, что ты врешь. Нам радостно слушать твои рассказы, но пусть еще кто-нибудь повторит их, чтобы мы радовались во второй раз... Пусть Кашкар скажет.
— Солнце вам загородил Кашкар...
В бинокль видел Казицкий: недвижно стояли в стороне женщины, а мужчины гага-аульские то вплотную окружали Нуцала и Махмуда, то шарахались от них. Но вот Махмуд махнул, как условились, своим серым платком и, высоко держа его в руке, повернул коня к аулу. А певец Ытим вышел вперед и запел: всегда славят победителей певцы.
* * *
Осману легко в саду работалось, прохладно. Баки легко работалось, но обидно за мужа. Кипело сердце.
«Я покажу им, что наша сила», — мечтала Баки и рыла канавку, чтобы напустить воду в Османов сад. Осман увидел поток, и крикнул Баки, чтобы она заделала межу.
— Ты думаешь: если я одна в саду, ты мне можешь приказывать? Я одна была, когда убила Лечи-Магому.
— Не вспоминай, Баки, кончится плохо разговор наш.
— Лечи-Магома говорил мне: «Кончится плохо разговор...» Ты говоришь. Не забудь: пять сестер останутся после тебя. Думаешь, если Айша большевистской кахпа стала, — накормит всех.
— Ты сама кахпа, Баки, и сын кахпа — Кашкар!
— Ты сам кахпа! Что может быть хуже: мужчина бабой делается! Ты пошел в город, сделался большевистской кахпа и войска привел. Из-за тебя страдает народ.
Хотел Осман сказать, что он терпел много и молчал много, что не хочет больше терпеть, молчать. Хотел сказать: прошло время, когда Баки делала, что хотела, но ■не. мог: в горле застряли слова. Баки, деревья, небо — весь мир покрылся мглистыми пятнами, которые набегали друг на друга, кружась, как жернова.
Осман не слышал, как хрустнули кости, не видел, как отлетели в траву отрубленные пальцы. Он взмахнул еще раз и ударил Баки в грудь. Она упала, и лопатой он бил плашмя ее жирные груди, жирные ляжки, живот.
Потом Осман вернулся в свой сад и сел на камень: пробовал, как липка кровь на пальцах.
Убита Баки...
Осман вымыл руки в холодной воде канала и тогда услышал музыку, отдававшуюся тысячеголосым эхом:
красноармейцы и гага-аульский народ — женщины и мужчины вместе — празднично шли на поля и в сады, разгромленные ливнем.
Осман вздрогнул и стряхнул с пальцев мутные капли, пытаясь отогнать страх. Напугала не смерть Баки: он давно должен был убить ее — око за око в Гага-ауле. Пусть когда-то равная пролилась кровь: Лечи-Магома убил Джамала, а Баки — Лечи-Магому. Но опять поднялась чаша весов для Баки, опустилась для Османа: из-за Кашкара и Баки погиб Гассан где-то в горах.
Услышал музыку, вспомнил Осман: не было власти, когда убивала Лечи-Магому Баки, но теперь — Казицкий в Гага-ауле, он власть... Но разве была когда-нибудь справедливость у властителей?.. Арестуют Османа, и что. будет тогда с сестрами?
Осман побежал из сада и, спустившись к реке, пробрался домой тропинкой. Ханисат встретила его.
— Ты почему не работаешь, Осман?
— Сама работай, сама привыкай.
— Я хотела пойти, но тебя не видела. У других братья и отцы — я не могла пойти одна.
Осман долго лежал на тахте, устланной остатками ватных одеял, войлока и бурок, и позвал наконец:
— Ханисат... Может быть, я в город уеду... ты самой старшей останешься.
— Нет! Пусть Гассан или Айша вернутся: не смогу сестер кормить.
— Не скоро вернется Гассан.
— Умер он?
— Никто не знает. Еще раз поищу его в городе.
— Умер... — привычно грустно заключила Ханисат и попросила брата: — Пока не приедет Айша, не уезжай, Осман! Я одна останусь — меня Баки красноармейцам отдаст.
Разговаривали Осман и Ханисат, а аул задрожал тревогой: донесся совиный крик женщины и густой мужской говор. Ханисат сбегала посмотреть и вернулась бледная.
— Ты? — И потому, что не ответил, отвернулся Осман, она еще раз спросила: — Мне скажи, мне: ты ранил?
— Я убил.
— Ранена, ранена змея эта.
— Проклят бог, который сделал меня мужчиной: я не смог даже убить ее!
— А для меня проклят бог, который не сделал из меня мужчину, хотя бы паршой обглоданного! — подхватила Ханисат слова брата.
Они замолчали. Улицы заливал шум, точно камни брошенные — слова ненависти. Осман понимал: многие, даже друзья, уже презирали его. Вспомнил Осман: он и Гассан были маленькими... В ущелье наткнулись на убитого соседского коня... Хозяин искал его... Заторопились на покос рассказать о находке отцу... Лечи-Магома взмахивал косой и, словно утопая, терялся в траве и в лысых камнях, торчавших на крутом и мокром в вечной тени лугу... «Проклятый Муртаза убил!» — в сердцах бросил отец косу... Он оделся в бешмет и черкеску, затянулся поясом, к которому точно пришит был рыжеватый облезлый кинжал, и стал обходить соседей... Те тоже бросили косы, тоже одевались... Длинная вереница их приблизилась к Сулейману... «Убил бы он лучше меня!» — вздохнул Сулейман... Затряслась его посеребренная борода... Никто в Гага-ауле не говорил с Муртазой... Когда стражники вели его в город, женщины бросали в него камнями, плевали... Кричали про позор Муртазы: убил лошадь, беззащитную, хуже женщины... Муртаза вернулся из тюрьмы через год — убили его Сулеймана дети.
«Что, если со мной, как с Муртазой, сделают: заплюют?» Мысль Османа билась в мраке и не находила ответа.
— Идут! — всплеснула руками Ханисат и наклонилась над детьми, подставляя спину под комья ударов.
* * *
Плакали бы гагааульцы, но потеряли слезы в бессонных ночах. Распознавая участки, они останавливались на смытых межах, бездумно глядя на тонкий покров земли. Масса ее свернулась вдоль размытых канав, забралась в изгороди, забилась в трещины, рассекшие склоны ущелья, девственные, как тысячу лет назад, когда впервые пришли сюда отцы отцов гага-аульских.
— О, проклятый день!.. О, аллах!..
Казицкий слушал вопли и ходил среди озабоченных красноармейцев. Кашкар не отставал от него и бормотал, точно раздумывая:
— За один день что сделаешь?.. Люди тысячу лет работали.
— Чем засеем, если даже соберем пашни? — спрашивал Абубакара Нур-Магома. — Давайте лучше умирать будем.
— Я не согласен: и червяк от смерти бежит. Эй, жена! Давай начинать! — позвал Абубакар.
— Молодуха поначалу молчала да слушалась, а я постарела уже. — Фатимат всадила лопату в мягкую землю, которая недовольно ответила ворчливым скрежетом скрытых камней.
— Работаешь! — обрадовался Казицкий.
— В пустом селе лиса владыка, — засмеялся Кашкар над Фатимат. Она подняла на него глаза и ответила, точно задумала что-то:
— Ты мудрый, а не знаешь: захочет человек — козла выдоит.
— Что она сказала, Кашкар?
— Нашу пословицу, товарич Казицки: аул без господина — сам себе старшина. Видишь, уже смеются люди на меня: ты не пустил меня встречать их.
Казицкий усмехнулся и не ответил, позвал:
— Товарищ комбат, нам по ее примеру придется.
Красноармейцы, вслед за женщинами, разбрелись по склону. Сверкали кирки, скрежетали лопаты, влажно шлепалась о камни земля. Сердились люди гага-аульские — мужчины.
— Почему кызыл-аскеры работают с нашими женщинами? Разве они мужья им?
Кашкар не работал, похаживал и кивал на русских:
— А где семена возьмут?.. Не слушались меня.
— О Кашкар, ты нам — из сала ошейник, — усмехаясь, протянул к нему руки Абубакар. Но Кашкар продолжал серьезно:
— Большевик говорил, что снова будете прыдсыдателя выбирать.
— Мы — как лошади, Кашкар: были для нас наши ноги врагами, — опять смеялся или раскаивался Абубакар.
— Кто знает, чья победа будет? Вода бежит, а камни остаются: уйдут большевики — нам с Кашкаром жить, — говорил Абу-Талиб.
Снизу, из садов, спешил Махмуд. Он не останавливался и не шутил с гагааульцами: отыскал Казицкого и потянул к себе.
— Серьезный дело есть.
Как ни старался Махмуд уберечь тайну, — поняли люди гага-аульские: плохое случилось в садах, и Кашкар, плоский в новых френче и галифе, первый побежал туда.
— Все наше дело испортил! — беспокойно смотрел Махмуд на бегущих. — Народ опять станет за Кашкара. Народ думает: не человек дженчина, ее нельзя убивать...
* * *
Раненая Баки очнулась от страшной боли, которая мучительно тянулась к обрубкам пальцев, к рассеченному темени. На ресницах засохла кровь. Баки не удалось разорвать веками ее колючую корку, и она, корчась, поползла по земле. Где-то во мраке ошеломленного сознания Баки родилась, как день, ясная и четкая мысль, что теперь ей не хозяйствовать над своей жизнью, как до сих пор. Баки испугало не то, что не увидит она белого света и ярких зорь дня и ночи, застывших очертаний гор, вновь и вновь меняющих окраску. Ясная, как день, мысль была о том, что она, Баки, будет беспомощна теперь перед лицом дунея46 и чужая воля будет ее поводырем.
Баки замычала, как бык, тоскующий в темном стойле. И услышала дальнюю музыку, сплетающуюся с журчанием воды в канале. И тогда поняла Баки, что умерла, что ангелы несут ее по мглистому и сумрачному путй неба, и бог позвал ее по имени:
— Баки! Баки!
И она не знала, что отвечать ему: забыла слова.
Махмуд, посланный в сады Казицким, окликал Баки. Махмуд любил когда-то Баки, дыхание громадного мира, рвущееся из ее груди, твердой, как земля, жаркой, как солнечные лучи.
Теперь жирная и крупная Баки ползла по земле черным, изуродованным обрубком. На спину сполз окровавленный платок, и оголились тяжелые, дряблые ноги.
Махмуд не решался приблизиться к Баки. Расширенными глазами долго смотрел на нее и побежал к людям, а бог перестал звать Баки по имени. Она обрадовалась воскресшей в руке и темени боли и перекличке бегущих через межи к каналам людей. Они скоплялись вокруг Баки, чтобы лучше разглядеть, тянули к себе обрубленную руку и садились на корточки около головы. И когда увидели остановившегося на меже Кашкара, побежали к нему.
Он слушал их прерывистые рассказы, спокойный более, чем если бы был чужим для Баки: адат — и не только адат — не позволял ему выказать участие к судьбе жены.
— Дожили» Дожили, значит, до того, что начали нападать на беззащитных женщин, — вздохнул он и, отвернувшись, пошел к Гага-аулу.
Люди оставались около Баки и ждали, когда принесут из аула бурку или носилки, чтобы поднять раненую. Каждому жаль было своей одежды, и каждый скрывал это, отвлекая мысль к Осману, так позорно рассчитавшемуся с женщиной.
Дома Джабраил-кадий смыл с пальцев Баки черную кровь и положил на раны жженую шерсть и вату. Но люди успели увидеть жуткие у живого человека розоватые пятна костей... Во имя бога милостивого и милосердного Джабраил-кадий оттянул за волосы кожу на темени Баки... Люди увидели маленькую трещину на черепе...
— Вот тебе камунисты... камунисты вот тебе! — слышали люди хриплый шепот Джабраил-кадия. Они выбирались из жаркой, словно застланной испарениями комнаты. И когда на улице их ослепило солнце, бред овладел ими.
Гагааульцы — и те, которые убивали, чтобы самим остаться в живых, и те, которым убивать не приходилось, — никогда не видели раненых, обезображенных, истекающих кровью. Видели только убитых. Маленькое черное пятно на теле было странной и нелепой причиной смерти. Сегодня их возмущение вскипало на крови Баки.
— Что будут говорить о нас русские? Что мы хуже зверей, что мы убиваем даже женщин.
— Хотели помочь, вышли работать с нами. А теперь скажет начальник: «Если в Гага-ауле такие дела делаются, то мы уйдем и никогда не вернемся сюда».
— Убить! — прокричал муэдзин.
Абу-Талиб и Керим звали людей к мести.
Они знали, что сделал за шестьдесят лет с гагаа-ульцами проклятый московский царь. Разодрал когтями одежды гагааульцев и оставил их в лохмотьях московский царь. Душил гагааульцев среди мертвых гор, заставлял делать из камней горький хлеб и раздувал их тела голодом проклятый московский царь.
Долина гага-аульская из-за него стала кипящим котлом; шестьдесят лет огненные языки лизали стены котла, и пенились в нем злоба и зависть, ненависть, убийство и мщение. Он дышал на Гага-аул зловонием, разъедал чесоткой, ослеплял трахомой — проклятый московский царь. Молнию он заменил поджогами, гром — порохом, позор — бедностью, знание — бредом, честность — лестью, любовь — покорностью, доброту — трусостью, доблесть — насилием, слабость — преступлением, разум — злом. Вот что сделал с гагааульцами проклятый московский царь!
В кипящий котел бросил муэдзин неистовый крик:
— Во имя бога милостивого и милосердного... Нет бога, кроме бога, и Мухаммед пророк его... Убивайте неверных на пути вашем!
Глаза муэдзина налились кровью, и, как знамя, реяла красная борода. Он поднял камень и, держа его высоко над головой, понес через толпу. Люди пошли за ним.
Тогда вбежала в дом Ханисат и пригнулась над младшими, точно нависли над ней тяжелые комья ударов.
Но, как пузыри, начали лопаться где-то редкие выстрелы, и люди гага-аульские остановились: думали, что по ним стреляют.
Ни одна пуля не взвизгивала над ними, не сплющивалась, ударяясь о каменные сакли. Люди ничего не поняли и тогда, когда прибежали на утес. Красноармейцы поочередно стреляли с утеса в камень на другом склоне ущелья, взбивая вокруг него тучки пыли.
— Эй, народ, кто из вас попадет в камень?.. Эти русские даже стрелять не умеют! — звал Махмуд.
Множество жадных рук протянулись к Махмуду, и точно не было только что крови, гнева и злобы. Гагааульцы по-детски поддавались игре, кроша удачными выстрелами камень, смеясь над косорукими.
* * *
Люди опомнились только вечером, на излюбленных для бесед кровлях.
— Какое мы чуть было зло не сделали, Нур-М.агома! Какое нам дело, если бы даже убил ее Осман? У них свои счеты.
— Женщина она.
— Женщина... Ее дело было убивать Лечи-Магому, если женщина она?
— Ее дело было судить людские дела, если женщина она? Когда она для себя работала — она не женщина была: делегатка; когда ее побили — женщина.
— Не знаю, Абубакар! Знаю, что придется нам с Кашкаром жить, когда уйдут большевики. Я даже не понимаю, зачем большевик затеял столько хлопот, когда нет у него семян. Зачем мы ему верим? Или он, или мы глупые. Хоть и злая доброта у Кашкара, а не прожили бы мы без нее даже одну зиму.
— Нет, здесь что-то другое придумать надо. Я еще сам не знаю что. Но вот рассказывали же нам, что делается что-то за горами...
Одинокий, лежал Осман и старался услышать сочувствие в голосах, доносящихся с улицы. Но люди не собирались к нему с разговорами, и даже Ханисат молчала, лежа в кровати и загородив, как старая мать, своим хрупким телом младших. Ханисат притворялась, что спит, но дыхание билось, как птица.
Огонь в очаге кутался в кисею пепла, свертывались ярко-золотые листья кизяка.
— Осман, ты дома? — крикнул Махмуд, скрипнув дверью. — Ты глупый, Осман! Сегодня я сам избил бы тебя.
— Убивай... Я бедный человек, и некому мстить за меня... Ей можно было убивать, мне нельзя... — Встал Осман и спрятался в угол.
— Ты глупый, Осман: не твое дело было убивать.
— Конечно, не мое дело: я бедный человек.
— Если б не был ты бедным человеком, давно бы арестовали тебя.
— Не арестуют?
— Надо арестовать: ты нам все дело испортил сегодня. Мы хотели, чтоб стал нашим гага-аульский народ, а ты вернул его Кашкару.
— Я послал?.. Да я сам убил бы его! Конечно, вы будете ласковы с ним: у него зерно есть.
— Ничего я с тобой не поделаю, Осман: как земля — только хлеб родит, так и твои мозги... Если бия таким был, убил бы тебя сегодня. А я сделал из тигров котят. Одним словом: надо делать все так, чтоб народ видел, что его собственное дело делается; завтра-послезавтра народ потребует, чтобы мы отобрали у Кашкара зерно... Народ потребует... А кто требовал, чтобы ты Баки убивал, женщину?
— Какая разница — женщина или мужчина: они оба нам зла желали.
— Если б они одному тебе зла желали, арестовал бы тебя товарич Казицки. Понимаешь теперь?
Стыдно было, бодрствуя, лежать при госте. Но Ханисат на тахте обернулась к нему и, выбрав минутку, спросила:
— Махмуд!.. О Махмуд!.. А вы будете искать Гассана?
— Будем, будем, хорошая девочка: товарич Казицки говорил, что очень важно найти его.
— О! — воскликнула Ханисат и уселась, чтобы рассказать, какие она сварит галушки, если найдется брат.
* * *
Вечерние горы, как вздыбленные быки, давили Гага-аул. Возвращались с полей люди гага-аульские. Они бесшумно исчезали в саклях, краснеющих смутным светом кизячных огней и пахнущих дымом. Из большого мира протянулись через горные кряжи усталые сумерки, и в стойлах упорно будили тревогу тоскующие коровы.
Красные аскеры, не останавливаясь, бросали около входов лязгавшие кирки и лопаты и торопились на площадь, где ярко горели над котлами дрова. А люди гага-аульские ужинали дома — лениво догрызали смоченные в сыворотке куски чурека и тоже спешили на площадь смотреть, как вкусно и сытно будут есть русские.
Около костров резали баранов. Прижатые цепкими пальцами к земле, они вздрагивали и трепетали от прикосновения ножа, нащупывавшего хрупкое горло.
Гагааульцы смотрели и точно в своих пальцах чувствовали под жесткой шерстью женски нежное, прослоенное салом мясо и курдюки. Они смотрели, смотрели. Ловили плотский запах изумрудных потрохов, из-за которых дрались псы. В звериной лихорадке щелкали зубы.
Мясо, мясо!.. Солнечным теплом густо скользит оно в пальцах. У него хмельной сок и волокна. Оно, как серебром, покрыто салом. Сало течет и стынет на губах и сладко обволакивает язык и нёбо. Как молоко матери, пенится сало в горле.
Красноармейцы расточительно бросали псам белые кости и запивали еду густым и липким чаем.
— Ты кушал, Иван?
— Кушал, кушал, хозяин!
— На домой пойдем?
— Пойдем.
Кончалось праздничное зрелище еды. Над траурно догорающими углями чернели жирно закопченные днища котлов, и, урча, грызли псы обглоданные уже кости. На минарете прокричал о вечерней молитве муэдзин, скучавший ветер подхватил призыв, смешал с шумом реки и вознес по склонам гор к безответному небу.
Тогда необъятная тишина повисла над Гага-аулом, а на Млечном Пути остановились белесые табуны подкованных звездами коней.
* * *
Кашкар встрепенулся на кровати и мгновение вслушивался, стараясь понять, что разбудило его.
За стеной сдержанно стонала Баки... В конюшне глухо били копытами землю и фыркали кони... За сундуком пискливо спорили мыши.
Нет, не шум разбудил хозяина.
За окном беспокойно озирались и мерцали звезды, и Кашкару казалось, что это они, их борьба с неумолимо возникающим днем трепетно коснулась его. Он сунул ноги в шаровары и с револьвером побежал на террасу.
Из тесной ямы. сдавленного постройками двора метнулась в амбар робкая тень.
Кашкар застонал от возмущения и выстрелил в небо, точно призывал в свидетели бога. Скатившись по лестнице, пересек двор. Запер воров в амбаре.
Он хотел спросить их имена, но тугой комок злобы застрял в горле. И Кашкар расстреливал дверь. А снаружи, откликаясь на выстрелы, пронзительно засвистел караульный.
Тревога выбросила гагааульцев из саклей. Перегоняя красноармейцев, они выбегали на площадь, перекликались, спрашивали Махмуда и не верили, что он не знает еще, в чем дело. Он не нашел Казицкого в кунацкой и через тихую комнату Баки проскользнул во двор.
— Выходи, — кричал Кашкар, — или я прикажу, чтобы вас там же убили. Хорошее дело ворами умирать!
Казицкий стоял во дворе и, не понимая по-горски, обрадовался Махмуду.
— Войди, пожалуйста, в амбар и выведи их. Смотри только не пугай.
— Сам знаю.
На площади закипал человеческий говор. Женщины запрудили выходы из улиц и смотрели, как быстро выстраивались вдоль мечети красноармейцы. Фатимат, жена Абубакара, стояла впереди и искала в толпе мужа.
Махмуд вывел из амбара Абубакара, Нур-Магому и молодого Сеида. Точно куча пороха, шипя, взорвался Кашкар: забыл все слова и с размаху ударил старого гагааульца.
Казицкий сжал кулаки. Как перед смертью, запомнились ему утренние горы, одиноко мерцающая звезда. Он бросился к Кашкару, но отвернулся, спрятав налившиеся кровью глаза. В них блеснули скупые капли слез. Стряхнув их, он приказал коротко:
— На площадь!
— Товарич Казицки, — в воротах догнал его Махмуд, — как можно, чтобы Кашкар бил, Абубакар нуждался, воровал? Весь Гага-аул сейчас такой: или воровать, или помирать.
— Не захочет помирать, Махмуд!
Опешили люди, увидев, как бил Кашкар старого и хилого Абубакара в тесном кругу красноармейцев и приговаривал:
— У меня воровал?.. Вот тебе кукуруза... вот тебе ячмень...
Шапка упала с круглой головы Абубакара, кровь каплями висла на стриженых белых усах, и народ гага-аульский наконец-то возмутился: Фатимат налетела на Кашкара, повернула к себе и плюнула в его сведенное злостью лицо.
— Будь ты проклят, скверный Кашкар! — выплескивала она растопившуюся ненависть. — Чтоб род твой с корнем выскребло! Чтоб вымокнуть тебе в своей крови! Чтобы умереть тебе от пули безродного! Чтобы бог покрыл тебя своими грехами! За что ты бьешь моего мужа?
Кашкар молчал, хрипло дыша, а Фатимат взбежала на крыльцо и призывала оттуда:
— Добрый народ гага-аульский! Кто знает — горы знают, но они молчать умеют... Темные ночи знают да наш теплый очаг — они тоже молчать умеют... Мы знаем — и мы молчать умеем... А что этот проклятый человек с нами делает!.. Мой хозяин — бедный. В прошлом году продал он Кашкару последнюю шерсть, и Кашкар заплатил ему донскими деньгами, которых никто не взял в городе. Тогда мой хозяин взял у Кашкара ячмень для посева, и Кашкар за два пуда требовал десять пудов... Это какое дело?.. Мой хозяин говорил ему: «Возьми обратно свои деньги донские, отдай мне еще два пуда за мою шерсть». Не давал Кашкар... Тогда сказал мой хозяин (завтра сеять надо нам или нет?): «Теперь большевистское время, пойду и добьюсь своей рукой...» Пошел — и смотрите, что сделал с ним проклятый Кашкар!
За горами вспыхнуло солнце и заткало багрянцем хребты. Понурый стоял Абубакар, стыдясь нового дня, в котором откроется гагааульцам его опозоренное побоями лицо... Казицкий смотрел на него, слушая горящую ненавистью речь Фатимат, которая должна была бы зажечь Гага-аул.
Но молчал народ, озираясь на русских. Шестьдесят лет приучали его думать, что русские за тех, у кого много денег, кто изобилен в гостеприимстве. И сейчас не знал народ, для кого стоят здесь красные аскеры, хотя еще вчера они вместе копошились на пашнях. И сейчас боялся еще обидеть Кашкара, который единственный может дать народу зерно.
— Товарич Казицки, народ твой слово ждет, — требовал Махмуд.
— Подождем.
— Разве есть в Гага-ауле такой человек, какого не обокрал бы этот проклятый, не имеющий товарищей? Кто ему позволил? — взывала Фатимат.
— Большевики, — ответили из толпы.
— Товарич Казицки, люди говорят: большевики позволили, чтоб воровал и бил Кашкар. Скажи им.
— Подождем, подождем немного, Махмуд!
Кашкар слушал Фатимат, устремив на нее остановившийся взгляд. Сам он всегда не любил гагааульцев, но твердо верил, что они любят его за богатство и за то, что оно давало им. Не он ли ссужал их хлебом, скупал у них шерсть, одалживал им лошадей, кадров и ослов для поездок в город? Куда девались бы они все, если бы не он? Кто думает, что торговать легко?
Когда осмыслил Кашкар слова Фатимат, крикнул Казицкому:
— Товарич, дорогой товарич, ее арестовать надо!
— Арестовать?.. Ее арестовать?.. Товарищ комбат! — позвал Казицкий так громко, что замолчала испугавшаяся Фатимат.
Тогда люди увидели, что красноармейцы окружают Кашкара, и услышали, что говорил со слов Казицкого Махмуд.
Широко открывались человеческие глаза. Люди думали до сих пор, что они должны Кашкару, привыкли считать себя зависимыми от него, беспомощными, бессильными. Они привыкли злобствовать только наедине с собой, наедине загораться гневом мести и гаснуть.
Сегодня слушал Махмуда гага-аульский народ и начинал понимать, что своей рукой он должен брать свое добро, что все, чем жили до сих пор гагааульцы, было от царского зла, что все кашкаровское добро — добро народа, что правду говорила Фатимат, когда вором назвала Кашкара.
И какие же совершились на свете дела!.. Русский начальник сказал гага-аульским людям, чтобы шли они за деревянными чашками, за кожаными мешками, за ивовыми сапетками и спешили бы делить гага-аульское зерно, которое Кашкар забрал себе.
Вот наполнили женщины двор Кашкара, вот Махмуд роздал им зерно. Радостные и счастливые, пошли люди гага-аульские на пашни.
Вот встала с постели Баки, вот она вышла на крыльцо и проклинает и грозит обрубками рук...
_____________________________________________________________
1 Кумган — кувшин с высоким горлышком и носиком. (Прим. составителя.)
2 О, аллах! (Прим. составителя.)
3 Выражение безграничного горя. (Прим. составителя.)
4 Васиат — завещание. (Прим. составителя.)
5 Вакуф — правильнее «вакф» — переданное мечети по завещанию или в порядке дарения движимое и недвижимое имущество. Мечеть пользуется доходами от него, но не владеет им по праву собственности. Вакф — собственность аллаха. (Прим. составителя.)
6 Тезет — процедура выражения соболезнования. (Здесь и далее, кроме оговоренных, прим. автора.)
7 Адат — обычное право горцев, созданное на основе патриархально-родового быта. Шариат — гражданско-религиозное право мусульман, созданное в период развития торговой буржуазии. (Прим. составителя)
8 Газыри — деревянные патроны, в которых в старину, когда ружья заряжались с дула, хранился порох.
9 Кахпа — развратная, продажная женщина (брань).
10 Муталимы — учащиеся в религиозных школах, семинаристы.
11 Чанур — струнный музыкальный инструмент. (Прим. составителя.)
12 Некях — брачный договор.
13 Выражение клятвы. Дословно: и раз, и два, и три. (Прим. составителя.)
14 В этом абзаце дана формула клятвы, которую требует мусульманское законодательство и которая на практике заменяется для муллы согласием на брак самой невесты.
15 Приветствовать друг друга словами: Ас-салам алейкум (букв: я вас приветствую). Ответ: Ва-алейкум салам. (Прим. составителя.)
16 Закят — система налогов, взыскиваемых представителями мусульманской церкви.
17 Во имя бога милостивого, милосердного.
18 Господи помилуй.
19 Румы — римляне.
20 Тамаяаны — старшины.
21 Яшасун — да здравствует!
22 Кызыл-аскеры — красные воины. (Прим. составителя.)
23 Ушурзакят — десятая часть урожая, взимаемая в виде налога в пользу церкви. (Прим. составителя.)
24 Джинны — духи, которые бывают добрыми и злыми, но с которыми, независимо от их качеств, не рекомендует общаться Коран.
25 То есть женотдел. (Прим. составителя.)
26 Имам-наиб — гражданско-религиозный глава, правитель.
27 Ночь алькадра — ночь, когда, по поверью, останавливаются все реки и люди начинают гадать на воде. (Прим. составителя.)
28 Саба — мера сыпучих тел; обычная саба около двух пудов, горная — около одного пуда.
29 Актаб, халиф, шейх — различные степени приближения к богу. (Прим. составителя.)
30 Джума-намаз (по-чеченски: джума-ламаз) — молитва, совершаемая в мечети соборио — всем селом — по пятницам. (Прим, составителя.)
31 Имамство бывает двух видов: имамство как руководство во время молитвы или как присвоение гражданской, религиозной и военной власти.
32 Нажмуддин Гоцинский, богач, глава горской контрреволюции.
33 Газават — священная война.
34 Мунафики — термин, вошедший в разговорную речь во время имама Шамиля. Мунафики — колебавшиеся, не поддерживавшие Шамиля. В дни гражданской войны на Северном Кавказе этим именем контрреволюционеры стали называть красных партизан-горцев.
35 Кафуры — нечистые. Термин, употребляемый благочестивыми мусульманами в отношении христиан.
36 Во время гражданской войны оружие ценилось так дорого, что за него давали не только хлеб, по и скот, и участки пахотной земли.
37 Намек на освобождение женщин, начавшееся в революционных кругах населения.
38 Песня переведена для меня т. А. Л. Шахмаловым.
39 Елдаш — товарищ.
40 Гейт — боевой клич. (Прим. составителя.)
41 Кадр — мул.
42 Степени шейхистских совершенств.
43 Гурии — девы, услаждающие, по учению Корана, правоверных в раю.
44 Нет бога, кроме бога... (Прим. составителя.)
45 Мухаджиры — последователи пророка, ушедшие с ним после первых неудач политической борьбы с феодальной мекканской знатью в Медину.
46 Дуней — мир; комплекс жизненных явлений.