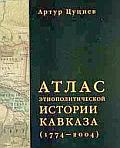Два раза в неделю, в понедельник и в пятницу, в одиннадцать ноль-ноль и в девять пятнадцать у подъезда Ордена Трудового Красного знамени Всесоюзного государственного института кинематографии останавливалась «Волга».
Из машины выходил мужчина среднего роста с ослепительно белой головой. Четкой походкой кадрового военного, слегка наклонясь вперед, будто только что поднял невидимых бойцов в атаку, он входил в институт и поднимался на второй этаж в аудиторию номер 221. Там его с нетерпением ждали семнадцать человек из отдаленных и близких республик страны, из близких и отдаленных государств почти всех континентов мира...
Это был наш мастер — Роман Лазаревич Кармен.
Так и хотелось закричать: «Кармен! Черт подери!» Дамочки века прошлого о таких говорили: «Интересный мужчина!» Мужики: «Свой!» или «Наш!» А Сталин, увидев его с камерой на ступеньках Георгиевского зала Кремля, заметил топающему рядом Черчиллю: «Такой серьезный человек и такой чепухой занимается!» Тирану, который одним росчерком пера мог отправить на тот свет пол-света, Кармен почему-то был симпатичен. Почему — знает один Бог!.. Есть легенда, что именно Сталин вырвал из рук своего сына Василия красавицу-жену Кармена и вернул ее «законному»... И не легенда, что коса репрессий не задела Романа даже древком, а в годы коллективизации и первых пятилеток и в самые тяжкие и вероломные времена нашей не совсем еще «исторической» истории Кармен был в фаворе, на пике, в зените своей славы — и отечественной, и мировой, славы кинодокументалиста номер один! На языке соответствующих органов и, простите, преступного мира, он был «чист» и действовал «по понятиям»... Он был симпатичен всем, особенно тем, кто его ненавидел!.. Потому что его ненавидели не за грехи, а за святость!..
И только сам он знал, что с рождения распят на кресте своего призвания и совести, которая может треснуть, но не согнуться. И крест — не липовый...
Приятно было видеть Кармена, наблюдать за ним... Ни одного лишнего слова, жеста, дешевой деловитости — собран и раскован, обязателен и свободен. Взгляд острый, проникающий, чуть-чуть с шершавинкой и в то же время — неназойливый. Закуривает. Пальцы обнимают зажигалку так, что, не видя ее в руке, чувствуешь все ее грани...
Да, был красив. Я бы сказал «сдержанно». Как «вещь в себе»... И под семьдесят одевался, как в двадцать пять, но это не эпатаж и не попытка вернуть юность... Это — стиль. Всегда гладко выбритый и свежий, словно только что принял душ, и в костюме «от Диора» и в гимнастерке под «телком», был вне моды и времени в том смысле, в каком летчик танку предпочитает самолет, хотя, мотаясь по весям, мелочь в карманах он не искал...
Первая фраза... Голос... Карменовский. Единственный. Несравнимый ни с чьим. Более или менее хорошей его копией может быть смесь Нат-Кинг-Кола с Кешем или голос такелажника, согнувшегося пополам под грузом непомерной тяжести... Этот голос, порой утопающий в глубины тела, порой порывистый, как хлопки океанского ветра в мокрой парусине, порой мелодичный, как лютня, всегда был родным и никогда — результатом деятельности легких и голосовых связок...
Подобно органной мессе, он исходил из тысяч труб, которыми были прошиты мысли и чувства человека, слившегося с миром пережитого, виденного, неизведанного...
Создавалось впечатление, что находясь сейчас здесь, он — везде, всегда, во всем, со всеми: стучит молотком, красит, пашет, строит, бороздит моря, стирает, гладит, бреется, хохочет, плачет, умирает, рождается, любит — чем там еще занимается человечество? Не помнится, чтобы он был в каком-то одном, определенном состоянии, если это вообще возможно... Вероятно, это и есть жизнелюбие, только без потолка и границ, без пауз — слишком стремительное, одержимое, жертвенное, чтобы осмыслить самое себя, как частицу вне целого, каким представляется нам мир. И он был рад этому, как наваждению, как чуду, — жизнь была больше и яростней, чем просто бытие, и эта жажда порой разрывала его на куски, превращала в плазму, в шок, в молнию, в саму беспредельность, и он был счастлив, что он такой разный, неожиданный и бесконечный...
Он не читал лекций в общепринятом смысле этого слова... Лекции протяженностью в четыре часа предпочитал «вольную» беседу, сознательно или бессознательно задевая почти все категории жизни во всех ее ипостасях... Не в пример дилетантам, очарованным возвышенным незнанием, не говорил, что «искусство — это тайна», но и не пользовался «периодической системой» для объяснения себе и окружающим бесконечно многообразной галактики искусства. Это был великий учитель! Он ничему не учил... Цель заключалась в другом: обнаружить и выявить для себя и для нас, студентов, наши способности, возможности и показать нам мир в ракурсе, когда он предстает перед нами как творческий материал. Он говорил обо всем — о людях, о кино, о литературе и поэзии, об архитектуре, о музеях и живописи, о политике, о выставках, о фестивалях, о друзьях, о войне, о патриотизме, о первых пятилетках, о впечатлениях от поездок в горячие точки планеты... Он размышлял о морали, нравственности, воле, трусости, сострадании, нежности, ярости, борьбе, о вещах, понятиях, явлениях, порой далеких от кинематографа (а есть ли вещи, понятия и явления далекие для кинематографа?) Мудрость заключалась в том, что все, о чем бы он ни говорил, было ярким, выпуклым, зримым, убедительным, а главное — представлялось одновременно как нечто целое, и как компонент, и как мельчайшая частица в единой материальной или духовной взаимосвязи. Рассказывая, он словно творил десятки тысяч фильмов, гравюр, полотен, рисунков, ансамблей — этот щедрый пир мироощущения захватывал воображение, и это было так же похоже на лекцию, как разгул в дансинге на конгрессе теологов... Но перед нами кипел мир страстей, красок и звуков. Подобно танкерам в шторм, мы грузно поднимались и опускались в стихии жизни и в ярких брызгах его слов. Видели тончайшие изломы еще невидимых нам горизонтов подлинного искусства, незримо нас вел к цели опытный кормчий...
Как ни парадоксально, любовь к художественному кино привела меня в мастерскую документалиста. Парадокс мнимый. Говорят о диффузии жанров, об удачных опытах и документалистов, и игровиков «проникать друг в друга»... Документальное кино и хорошее, и плохое, прежде всего — правда, всегда непогрешимая, чего не скажешь о кинематографе художественном, достаточно свободном в интерпретации окружающей нас действительности,
Жанр есть жанр, и ничто не дает право утверждать приоритет документального фильма над художественным. Но воссозданный образ трансформирует в себе элементы реальности, получаемой документалистом «из первых рук». Ощущение вторичности присутствует в любом художественном фильме.
Основой документального кино наш мастер считал репортаж. Если режиссер строит композицию или создает контрапункт, если в силу собственного видения он создает именно такой рисунок эпизода, большого фрагмента или фильма в целом, он должен делать это из репортажно отснятых кадров, кусков, блоков... Ему было не по себе, когда в работе документалиста он видел инсценировку, подаваемую как «видение», «новаторство», «новое слово» и т. д. Как правило, правда жизни в таких случаях деформировалась, фальсифицировалась, над ней совершалось насилие... Жанр убивал жанр. Взаимно. Кентавра не получалось. Зато налицо был момент отчуждения, фильм разваливался...
Непримиримый враг детального документального сценария, он считал, что сила хроники — в ее жизненной достоверности, внезапности, непреднамеренности и приводил в подтверждение этому ряд примеров из собственной практики:
«Однажды, снимая в ГДР, я увидел, как в трамвай за хозяином впрыгнула собака. Несколько позже, уже в другом трамвае, молодая чета буквально впихивала коляску с младенцем. Подумал — снять бы обе зарисовки с одним трамваем, в одном эпизоде. Шанс 1 к 1000. Но я стал терпеливо ждать и был вознагражден: к остановке подкатил трамвай, в него впрыгнула собака, а в другую дверь вносили коляску. Я отснял это. Одним планом.
А в годы войны я как-то снимал поле боя уже после того, как бой завершился. На земле в страшных, причудливых позах лежали убитые, а к передовой шли наши солдаты. Вдруг мое внимание привлекла одинокая фигура старухи с изможденным лицом и большими крестьянскими руками. С невыразимой болью она смотрела на тела убитых — уже в моем кадровом окне, камера работал, я снимал ее. Я мог уже остановить камеру, но что-то подсказывало продолжать съемку. В миг, когда палец вот-вот бросит гашетку — старуха, вскинув глаза на солдат, идущих в пекло, стала осенять их крестным знамением...».
Сразу же после революции на Кубе он вылетел в Гавану. Еще на борту самолета советовал коллеге: «Снимай сразу же, снимай все, что покажется интересным и неожиданным. Дня через два мы привыкнем, и материал потеряет остроту свежести...»
Его почерк не спутаешь ни с чьим другим. Этот почерк, постоянно меняясь, оставался неизменным до наших дней. Чем? Главным: выбором темы, отбором, политической направленностью, остротой социальных мотивировок, органически присущей его лентам ясностью, стилевой самостоятельностью, великолепной галереей человеческих портретов, отснятых в момент наивысшего напряжения духовных и физических сил!
А что же в этом почерке эволюционизировало? Сам творческий продукт, его подача. Менялась форма, и не формально, не по принципу «время требует», а по законам математического тождества между быстро меняющимся лицом мира и одержимостью художника познать этот процесс до мельчайших подробностей...
Есть ли у него хоть одно произведение, даже небольшое, в котором бы, как на волшебном осциллографе, не отражался пульсирующий ритм планеты? Как бы ни был короток метраж, при всей конкретности той или иной темы, он умел охватывать колоссальные массивы жизни, «выкачивать» до капли ее на глазах разрастающиеся объемы, и порой ему удавалось добиться этого «малой кровью»...
Элементарный план колонны французских войск, покидающих Вьетнам. Наезд трансфокатором на усталое, задумчивое лицо офицера. В фонограмме звучит песня Монтана о Париже — и вот вам вся бессмысленность позорной, никому не нужной войны, тоска по родине, счастье, что ты жив!..
Сильные мира сего на зеленой лужайке ранчо устроили ланч. Легкая закуска, терпкие вина, лучшие виски, вкусные сигареты, воздушные шезлонги... Ошеломительно красивая женщина играет в гольф... Без банального, поднадоевшего монтажного стыка «трущобы — небоскребы» мастер снимает эпизод так, что тебя начинает тошнить от катастрофы благополучия...
В его репортажах из Испании времен борьбы за республику много женщин, как правило, — в черном, как правило, с детьми, живыми и мертвыми... Женщина-мать становится символом республики: расплющенным, втоптанным в землю, когда он снимал сверху, бессмертным — когда припадал с камерой к земле. Крупные планы бегущих ног... Сирена... «Заваленные» столбы, углы домов, оконные рамы... в путанице проводов... Нервные изломы рук. Хаос световых пятен... Утонченная вытянутость фигур, пространства, самих небес воскрешают в памяти полотна Эль Греко, предвосхищают апокалипсис Герники, предают проклятию посмертную жизнь монархии...
А как прекрасен в его лентах аромат наших первых пятилеток! Чистота и мужество первых строителей первого в мире социалистического государства, размах этого строительства, его стремительно нарастающий энтузиазм! Будничный, и в буднях — праздничный групповой портрет лучших сынов и дочерей страны, отснятых в «характере» неповторимой эпохи...
Он чудом уцелел в тяжкое время Великой Отечественной! Колотился в бомбовом отсеке самолета, примерзал к суглинку окопов, летел пулей в первых шеренгах атакующих, первым снимал войска и фельдмаршала сдавшейся в плен фашистской армии, ее крестных отцов в Нюрнберге, в честь победы с незнакомыми друзьями пил спирт на капоте военного «джипа»...
Его работоспособность в мире кинематографистов не имела примера для сравнения. Времена года, времена суток, чередование дня и ночи не имели никакого отношения к распорядку его рабочего времени, которое не имело ни начала, ни середины, ни конца... Время он мог ставить «с ног на голову». В лучших случаях, вставая в шесть утра, он замертво падал в постель глубокой ночью, и даже сон был просто моментальной фикцией покоя, ибо волна забот накатывалась на волну проблем с частотой маятника ручных часов, и в этом сумасшедшем темпе прошла, очевидно, вся его жизнь!... Вспоминается такой эпизод. Симферополь. В толпе отдыхающих, плотной массой идущих к зданию аэропорта, вижу мастера. У всех в руках саквояжи, баулы, сумки, авоськи, шляпы, транзисторные магнитофоны, приемники, корзины с фруктами... У мастера — только печатная машинка. В левой руке — сигарета...
В последние годы своей жизни, оскорбленный ее скоротечностью, он бросил ей вызов и стал работать еще напряженнее и бойче, пытаясь обмануть и годы, и себя, и всех тех, кто видел его спящим на просмотрах. Но сны мастера были вещие! Подобно медиуму, он видел сквозь сон... Порой его веки смыкались сразу же, как только в зале гас свет, словно ему подсунули ролик с рекламой снотворного... Но вот свет на экране гаснет и что же? — Он делает ряд замечаний, отмечает удачи, предлагает переставить местами несколько эпизодов, объясняет, какие и в какой последовательности, и на глазах обалдевшего курса, ведь все до одного видели, что он спит, заявляет: «Кто следующий, ребята, у меня времени в обрез!» Создавая фильм за фильмом, он порой месяцами не появлялся в институте, и какие-то люди пытались разделить с нами горечь забвения. Но это был лучший урок мастера! Его никогда не брал гипноз «учительства». Он набирал курс, а не птенцов, ждущих, когда же прилетит родич и вложит что-нибудь в клюв каждому из нас. Конечно, нам его всегда не хватало, даже когда он был рядом. Он являлся, как мессия, а исчезал, как ядро пушки, и часто нам было неизвестно, на каком континенте трещит его камера, и как скоро он подарит нам бесценные минуты общения с ним. Но это была приятная неизвестность, и каждый из нас горячо желал только одного: лишь бы он был здоров!
Он был одним из пионеров так называемого «авторского» фильма. Очевидно, не было, нет и не будет не авторских фильмов, но речь идет о желании, захлестнувшим документалистов мира, быть намеренно тенденциозными по отношению к объекту внимания, чтобы нарушить баланс равновесия той безликой объективности, которая нивелирует и шлифует углы действительности, попавшей в кадр кинокамеры. Что же, сильный голос хорош и в хоре, и в партии соло. Для создателей авторских фильмов существует ряд независимых друг от друга творческих концепций, но объективность ряда таких фильмов, созданных за рубежом, полна издержек в силу частичного или же полного незнания движущих сил современного мира. Художественная ценность многих из них не отрицается, но леденящая кровь «объективность» фильмов, скажем, итальянца Якопетти, смакующего расстрел африканских повстанцев, пример не столько авторского, сколько коллективного фильма о морально-нравственной оскопации общества. Самая изощренная оригинальность мироощущения не способна ни на йоту компенсировать отсутствие мировоззрения в художнике: здесь узел тех порочных разветвлений, которые уводят его по заведомо ложному пути и превращают в шарлатана, компилирующего обрывки неосознанного опыта в образы, не вызывающие никаких чувств кроме чувства сожаления...
Помню, с какой горечью говорил об этом мастер, возвращаясь из-за рубежа после просмотра в качестве члена жюри или его почетного председателя десятков и сотен лент документалистов всех мастей и калибров...
Творческая концепция авторских фильмов нашего мастера была простой и, как истина, — верной. Комментируя ряд своих последних работ, сам он говорил о методе «маятника», позже — «челнока»... Метод — понятие собирательное и абстрактное, ведь каждая тема требует для себя единственно верного решения. Суть его размышлений о предмете можно было понять так: объект предлагает решение, решение — выбирает объект. В логике событий внешне всегда присутствует хаос, а в хаосе — скрытая логика. Этот афоризм скорее для алхимика, но за ним — правда. Дойти до истины можно только сомневаясь и утверждая. Одни сомнения — бесплотны. Только утверждать — значит отрицать возможность обратного. Для художника это роскошь. Но при самом деликатном отношении к теме, стиль его лент был всегда атакующий! Сталкивая и сопоставляя, он не пятился, а наступал! Вспомнив изречение Маркса о том, что «философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его», скажем, что мастер не только объяснил, но и переделал мир, попавший в объектив его камеры, в объектив тактических и стратегических воззрений режиссера. Это не насилие, не перетасовка, не попытка выдать желаемое за действительное. Это — позиция.
После просмотра фильма Рогозина «На Бауэри» мастер заметил: «Хороший, очень жизненный, живой фильм, но он объективен наизнанку... Вы посмотрите, кого он снимает — сплошные пьяницы, еле говорящие на «сленге», обреченные на вымирание...» Бауэри — мрачное гетто людей, списанных жестокой действительностью. Рогозин, собственно, снимал то, что видел. Но своим замечанием мастер имел в виду нечто другое. Безысходность, в которой живут обитатели этих трущоб, на пленке цементируется, затвердевает, не оставляя никакой надежды ни зрителю, ни, тем более, жертвам города-молоха. Зло здесь не находится в диалектической связи с добром. Объективность факта оказывается антигуманной не потому, что режиссер не показывает выхода из положения, а потому, что он закрывает на ржавый замок дверь, ведущую из этой трясины к солнцу...
Он был благодарен своей профессии за то, что она швыряла его в самую гущу жизни, и он был благороден по отношению к людям, посвятившим свои жизни документалистике. Искренне, тепло и содержательно он говорил о старейшине советской кинохроники Медведкине, о феноменальном Вертове... Ему было симпатично творчество известного французского документалиста Криса Маркера, американца Лайонела Рогозина, с нескрываемым сожалением говорил он о «сдвиге вправо» большого своего друга в прошлом Йориса Ивенса...
Благородство мастера не внешняя, а внутренняя статья его личности. Оно было лишено помпезности, снисходительности генерала по отношению к другому, рангом ниже по чину или по количеству проигранных сражений. Это благородство человека, знающего, как посилен или непосилен труд, вложенный в дело рук художника, правда, без скидок на творческие провалы или несостоятельность, какими бы причинами они не объяснялись.
Он был требователен. Понятно: он никогда не прощал себе, чтобы легко прощать другим. Он не шел по жизни — жизнь протащила его между своими «шестернями» в температурном режиме от минус 50-ти в торосах полюса до плюс 50-ти в пустынях Азии и на песчаных плато Южной Америки. Взглянем еще раз на руки — даже расслабленными, пальцы словно поддерживают камеру, ведь он не расставался с ней полвека! Даже тело свое, как универсальный штатив, он приспособил для съемки «Конвасом»...
«Смотрите, — обратил он как-то наше внимание, — упираетесь локтем в берцовую кость, слегка откидываете корпус назад — и камера не шелохнется. Можете быть уверены». Изображая свою находку на примере, он стал похож на одного из «Музыкантов» Пикассо...
Общение с богами не наложило на него и тени небесной отчужденности, общение с простыми людьми — тени огульного панибратства по отношению к смертным... Отношения с людьми у него были разные, сложные, противоречивые, но компромиссные — никогда!
Всем своим существом он учил зарабатывать «личный капитал» своими руками. Быть иждивенцем судьбы и случая, ждать помощи со стороны, загребать жар чужими руками категорически противопоказано! Нас, своих студентов, он обогревал равномерно. Возможно, у него среди нас были и любимцы — мы этого не знали. Каждый был убежден, что мастер всегда с ним! Из сотен тысяч лиц, встретившихся, встречающихся и тех, которые должны были встретиться, им вряд ли было забыто хоть одно...
В тот теплый весенний день мы, уже дипломники, с подачи Кармена решили отметить это событие на даче мастера, накрыли фешенебельно-скромный стол и... поняли безнадежность нашей общей радости. Это была встреча-прощание, и наше веселье, подернутое дымкой щемящей грусти, было похоже на вещи Баха, отмеченные вероломным включением трагической безысходности трели рожка...
Дача мастера была дачей мастера — броской, строгой, сверкающей стеклом, светлым деревом и чистотой ветерков, плывущих из резко очерченных морщин ее Вечно Временного Хозяина...
Медные сосны катапультировали взгляд в бездонную высь! Пахло шашлыком — этот запах был здесь неуместен, но всем хотелось есть.
Мастер взял меня под локоть: «Идем, старик, я покажу тебе дом... Тебе здесь нравится? Это вот гостиная... Шкуру быка мне подарил Домингин... Это келья моей нежности... здесь кухня... Это все своими руками... А вот гараж, смотри — я заезжаю сюда машиной, выхожу — и я дома...»
Его позвали.
Я остался на пороге между кухней и гаражом и с корректным любопытством стал осматривать гараж. Машины здесь нет. Она стоит около ворот — она верна своему хозяину, но не как вещь, а как сладкий для души сгусток энергии, дремлющей в жидком золоте бака, в моторе, в цилиндрах которого строго вертикально покоятся наполненные яростью поршни, в лабиринте проводки, пахнущей грушевым джемом и маслинами...
На стенах гаража и вдоль стен висит, лежит и покоится множество мелких и больших предметов, имеющих отношение к автомобилю, к индустрии скорости, надежности, экономичности, целесообразности...
Все это множество вдруг стало дробиться, рассыпаться, плавать, как цветные шарики в прозрачном масле, и, хотел я этого или нет, перед глазами поплыли влажные витрины магазинов, размытый шрифт неоновых реклам, холмы, опутанные паутиной дождей, полосатые холщовые навесы, брифинг, красные стены готических соборов, раскаленные лица бедуинов, ослепительная известка испанских сел, зеленая плащ-накидка, покорный профиль Хо Ши Мина, огромное, как у Саваофа, лицо Фиделя... «Покупайте скаты фирмы «Гудьир»... Дети Чили, пьющие молоко из стаканов, выскальзывающих из мокрых пальчиков...
Центрифуга стала раскручиваться быстрее! В брызгах искр, хрустя буксами, в ночи, как метеор, пронесся локомотив Кривоноса... Мрачнел Седов, улыбался Орджоникидзе, морщился Хемингуэй, словно поймал лицом биту...
За мгновения творился фантастический фильм, в котором «никто не забыт, ничто не забыто»... В этой ретроспективе не было только самого мастера, но, как ломающиеся льдинки, звенели голоса и веселые мордочки учениц «ликбеза»... Мелькнул трамвай, застрявший, как тромб, на онемевшей улице блокадного Ленинграда...
Убегающая от моря и бегущая к морю Одесса... Мальчик, пытающийся поймать летающие над головой детали фотоаппарата...
Все множество множеств стало самопроизвольно умножаться, и я ощутил то, что, очевидно, ощущает пилот горящего, падающего камнем самолета за секунду до соприкосновения с землей!.. «Смерть одним махом может разрубить эти связи — вот почему он бывает так пронзительно одинок!»
Я вышел к ребятам, к мастеру, к его большому другу и нашему учителю Гари Львовне Полонской и к незнакомой мне женщине — теплой и человечной. Она возникла здесь, как фея, — неожиданно и ниоткуда.
Ломая кусты, с темным лицом и вскипающей белизной волос, явился Константин Симонов. Потом — Генрих Боровик. Незнакомая мне женщина показалась Цветаевой, Гари Львовна — стареющей матерью Рембрандта, а мы, дипломники, — статистами Вечности...
Поверив в торжество отдыха в обществе приятных ему людей, мастер расслабился... Тонкая, в морщинках, шея... узкие плечи... хрупкая фигура...
Три дня назад. Едем в машине ЦСДФ. Машина гремит, как арба. Ощущение — пленного бога везет на бойню конюх Мида-са... Водитель что-то жует и лихо крутит баранку. Так везут мусор, но не людей... Странным образом связав толчки от колдобин с мыслью о полной незначимости своей личности за порогом семидесятилетия, мастер сказал мне: «Ты знаешь, старик, — я уже старик!» Я возразил. Он поморщился: «Да брось ты! Я устаю. Какой-то идиотизм!.. Ничего не успеваю сделать, а работы так много!» К шоферу: «Слушай, как ты едешь?» Ответ: «Кто как может, так и едет... А что?» «Машину надо вести элегантно», — с заметным раздражением говорит мастер. Шофер нехорошо ухмыляется...
Итак, мы на даче. Я посмотрел на мастера. Он оглядывал нас всех, как гриф-кондор пространство под порывами шквального ветра! Вот он задумался. Резкие, точеные черты лица. Плоскости лба, скул, щек, подбородка скульптурны, лишены деталировки... Линии не сливаются, а сталкиваются, образуя четкие углы — воплощенная решимость Гектора выйти на поединок с Ахиллесом! Нет, они сталкиваются, как вагоны сорвавшегося под откос состава... Симонов, Мастер и Боровик поют фронтовую песню. Мы хотим все подпеть, но не будет ли это кощунством? Ведь поют люди, прошедшие через тысячи смертей и жизней, поют, словно в последний раз под прицелом безжалостной Памяти!..
Однажды он пришел на лекцию радостно-взволнованным, торжественным, растерянным — состояние ребенка с подарком, опрокинувшим его воображение, ученого на грани фундаментального открытия!.. Предстояло создать полотно огромной социальной и эмоциональной силы — двадцать серий фильма о Великой Отечественной войне. С показом фильма в США, у нас в стране, во многих странах мира — представляю, что творилось с мастером! Создание такой эпопеи — вызов мировой совести, той ее части, которая предавала, предаст и намерена предавать забвению подвиг советского народа, в конечном итоге спасшего человечество от фашизма!..
И не только вызов — суровый урок поколениям, выросшим после войны, той их части, которую представляют жалкие ландскнехты капитала, неофашисты — их недобитые и новоявленные пастыри!.. И не только урок, но и величайший триумф, праздник, особенно для тех, кто пронес на своих плечах кошмарный груз войны от и до и, сбросив его, обнажил эти плечи для голубя мира!..
Война есть война. Но для советских людей она была священной, потому что велась от имени и во имя священной земли...
Этот фильм венчал собой и жизнь мастера — художественного руководителя двадцати серий эпопеи. Как солдат и художник, всю жизнь боровшийся за чистоту жанра кинодокументалистики, он мужественно провел свой последний бой за масштаб, идейную цельность фильма и в последнем толчке вознес до космической высоты магию хроники, способной обессмертить жизнь человеческой памяти!..
Серьезность темы, жесткие сроки производства, содружество двух творческих групп — американской и советской — предопределили множество проблем. Решать их нужно было оперативно. Помню мастера «в запаре». Телефонный звонок. Вопрос: «Как живешь?» Ответ: «В том-то и дело, что я не живу!..» Отвечает с улыбкой счастливого мученика. Живет! Еще как! Спорит! Доказывает! Ругается!
Лавины материала обрушились на головы создателей «Неизвестной»... Вопрос заключался не в том, чтобы выстроить, упорядочить, очертить логику повествования... Надо было не только воссоздавать, а строить из обгоревших балок войны пирамиду Вечности, с вершины которой были бы видны зловещие игры фашизма и цена, которой приходится платить его жертвам!..
Две ленты, сделанные самим мастером, первая и последняя — пролог и эпилог гневного эпоса, несущего свои свинцовые валы то мерно и пугающе бесшумно, то яростно, как цунами, или фуга, потрясающая проникновением в сущность Добра и Зла!.. Его усталый голос, комментирующий изображение, подобно жерновам, перемалывающим камни, дымится от внутреннего напряжения!.. Глубокая философичность, одержимость, стоическая убежденность — вот несущие, корневые компоненты последней, завершающей серии эпопеи. И он не дрогнул под их тяжестью — он понес их над гордо поднятой головой от имени и во имя миллионов живых и мертвых соавторов фильма.
Первым чувством, когда его не стало, было чувство потери — качнулась планета — удельный вес художника был громадным, а прыжок в вечность — стремительным и мощным!.. Скромный и незаметный, он рухнул, как гигантская скала — Эверест мужества, воли, кристальной чистоты и одержимости быть всегда атакующим в первых рядах борцов за Человека!
Он ушел не усталым мудрецом, а любопытным юношей, которому еще предстояло открывать мир, и, уходя, он доказывал смерти двусмысленность физического старения и духовной молодости — эта связь была в нем обратно непропорциональна, и чем сильнее белела его голова, тем сильней и ярче сверкали на его лице дожди и грозы непреходящей юности... Человек для всех времен и поколений, он был нам дорог еще тем, что родился в эпоху социальной революции и сам был частью и сущностью ее вдохновения и пафоса! Он умер стоя, работая, напряженная работа была ему по плечу, но необозримый горизонт памяти вновь осветился заревом пожаров, свистом бомб, стоном и проклятиями ни в чем не повинных людей... Память детонирует. Память взрывается.
Умер советский человек, но в час его смерти по нему зазвонил колокол Хемингуэя, с готической высоты хлынул дождь Йориса Ивенса, бросились из пучины моря к берегу рыбаки Флаэрти...
Как счастлив человек, который провел хоть час в обществе Мастера! Безмерно счастлив тот, кто видел его месяцами. А что сказать о людях, которым он дарил годы своей жизни?!
И в то же время, счастлив тот, кто не знал его совсем... Все существо, как незаживающая рана, болит от сознания, от физического ощущения, что его уже нет. «Человек — ничто, произведение — это все», — говорил Флобер. Что же, в определенном смысле слова, он был и остается прав. Скажем больше — есть художники, которых лучше никогда не видеть и не знать... Да простит меня тень великого писателя, на мой личный, субъективный, категоричный и, возможно, порочный взгляд — все произведения мастера не стоят одного взгляда, брошенного мельком, наспех, на ходу на Кармена — человека!
Но поставим знак тождества между бесценной ценностью жизни творца и бесценной ценностью его произведений — ибо они у мастера неразрывно едины: он дарил своим трудам жизнь, а они ему — бессмертие!..